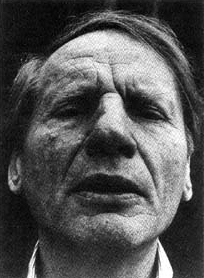Анатолий Осмоловский: «Желающие стать художниками абсолютно ничего не знают об искусстве». Осмоловский картины
биография, творчество и интересные факты :: SYL.ru
Анатолий Осмоловский - известный российский художник. Является теоретиком искусства, один из самых заметных представителей современного московского акционизма. Лауреат различных конкурсов и премий, в частности, в 2007 году был признан художником года на Премии Кандинского.
Биография художника
 Анатолий Осмоловский родился в Москве 1 июля 1969 года. После окончания средней школы, в 1987 году, поступил в высшее техническое училище ЗИЛа на факультет металлорежущих станков новых технологий. Однако в процессе оставил учебу.
Анатолий Осмоловский родился в Москве 1 июля 1969 года. После окончания средней школы, в 1987 году, поступил в высшее техническое училище ЗИЛа на факультет металлорежущих станков новых технологий. Однако в процессе оставил учебу.
В том же 1978 году вошел в состав литературной группы "Вертеп". После распада Советского Союза стал одним из теоретиков нового современного искусства. В 1992 году он возглавил движение Э. Т. И., эта аббревиатура расшифровывалась как "Экспроприация территории искусства". В то же время стал куратором галереи "Вита Нова". Начал активно заниматься собственным творчеством.
Премия Кандинского
 В 2007 году Анатолий Осмоловский стал лауреатом престижной премии Кандинского. Это ежегодная национальная премия в области искусства, которая вручается с 2007 года. Ее основной учредитель в наши дни - международный культурный фонд BREUS Foundation. Первоначально учредителем был московский журнал о современном искусстве "Артхроника".
В 2007 году Анатолий Осмоловский стал лауреатом престижной премии Кандинского. Это ежегодная национальная премия в области искусства, которая вручается с 2007 года. Ее основной учредитель в наши дни - международный культурный фонд BREUS Foundation. Первоначально учредителем был московский журнал о современном искусстве "Артхроника".
В первый же год учреждения премии Осмоловский стал победителем в номинации "Художник года". Также определили лучший проект года, выбрали самого заметного молодого художника и вручили приз зрителей за лучшее художественное произведение.
Церемония награждения состоялась 4 декабря - в день рождения отечественного абстракциониста Василия Кандинского. Торжество прошло в столичном центре современного искусства "Винзавод". Церемонию провела арт-группа "Синие носы".
В состав жюри вошли куратора музея современного искусства Гугенхайма в Нью-Йорке Валери Хиллингс, куратор национальных музеев Франции Жан-Юбер Мартен и руководитель отдела новейших течений Третьяковской галереи Андрей Ерофеев. Это стала первая значимая премия, которой был удостоен художник Осмоловский Анатолий Феликсович.
Московский акционизм
Художник является одним из ярких представителей московского акционизма. Это культурное течение, появившееся в столице в 90-х годах.
С самого начала оно позиционировало себя как левое направление, являющееся наследником советского политического аванграда XX века. Левую политическую направленность содержат практически все заявления, манифесты и акции представителей этого направления.
Акции Осмоловского
 Одна из известных акций, организатором которой стал Осмоловский Анатолий Феликсович, - "Тихий парад" или "Переползание". Она прошла напротив памятника Маяковского в Москве. В ней участвовали 9 человек.
Одна из известных акций, организатором которой стал Осмоловский Анатолий Феликсович, - "Тихий парад" или "Переползание". Она прошла напротив памятника Маяковского в Москве. В ней участвовали 9 человек.
Акция проходила параллельно с митингом радикальных левых организаций - анархистов и им подобных. Участники ползли от входа на станцию метро до самого памятника поэту. Смысл этого перфоманса должен был заключаться в возникновении реальной физической угрозы, когда участники акции ползли бы перед колесами автомобилей. Однако уже популярная к тому времени арт-группа собрала большое количество зрителей, которые их окружили плотным кольцом. Движение было остановлено, однако в реальности участникам акции авто не угрожали, потому что остались за спинами зрителей.
При этом акция несла еще и символический смысл. Это переход государства от социализма к капитализму. Акция проходила в ноябре, погода была плохой, поэтому участники были вымазаны в грязи, таким образом показывая свое отношение к этому переходу.
При этом сами авторы отмечают, что для радикальных акций изобразительного искусства символизм на самом деле второстепенен. Потому что у каждого перфоманса могут быть десятки смыслов и объяснений. Главное, что было важно для московских акционистов, - это внезапность и создание особой атмосферы вокруг этого события.
Акцию по достоинству оценил известный режиссер Эльдар Рязанов и даже попросил провести ее еще раз для своего фильма. Однако художники отказались.
Отравленная колбаса
 В 1990 году Анатолий Осмоловский стал организатором акции "Цена 2.20". В то время он был руководителем группы "Э.Т.И.". Перфоманс устроили прямо в центре столицы - на Красной площади.
В 1990 году Анатолий Осмоловский стал организатором акции "Цена 2.20". В то время он был руководителем группы "Э.Т.И.". Перфоманс устроили прямо в центре столицы - на Красной площади.
2 рубля 20 копеек - была стандартная стоимость колбасы в Советском Союзе. Участники акции съели под стенами Кремля батон колбасы, а затем упали, делая вид, что отравились.
Параллельно снимался фильм с одноименным названием. Каждый отрезанный ломтик колбасы означал начало новой главы картины. Таким образом группа художников выразила свою критику всего советского, батон колбасы был своеобразной метафорой самой страны.
"Семь смертей в Москве"
 В 2000-х годах Анатолий Осмоловский, творчество которого к тому времени было уже популярно, устроил видеоинсталляцию под названием "Семь смертей в Москве". Она была реализована в 2003 году.
В 2000-х годах Анатолий Осмоловский, творчество которого к тому времени было уже популярно, устроил видеоинсталляцию под названием "Семь смертей в Москве". Она была реализована в 2003 году.
Главной темой проекта стала нынешняя жизнь современного мегаполиса, показанная на примере Москвы. Художник рассмотрел за блестящей оберткой страшную сторону жизни в большом городе.
На полу галереи были расставлены семь телевизоров, в которых по очереди транслировались мирные московские пейзажи, которые время от времени прерывались выстрелами, визгом тормозов и взрывами. Тем, что приносит смерть. При этом сама смерть показана не была, что случилось с героями видео, зритель должен был дофантазировать сам.
- Темами инсталляции стала смерть бомжей. Каждую зиму в столице замерзают несколько сотен бездомных.
- Убийства предпринимателей. На входе только в один московский бар "Доллс" было совершено несколько громких заказных преступлений.
- Смерть в ДТП. Ежегодно в авариях гибнет около 30 тысяч россиян.
- Изнасилования проституток. По статистике, в российской столице насилию подвергается 20% жриц любви.
- Терроризм. За пример был выбран теракт на Каширском шоссе, когда в результате взрыва жилого дома погибло 223 человека.
- Драки. На момент выхода инсталляции количество бытовых и уличных убийств выросло на 30%.
- А также закат СССР, ярким символом которого стал штурм Белого дома. В результате этих событий погибло более полутора тысяч человек. По крайней мере такие данные приводит газета "Завтра".
Работы Осмоловского-художника
 В настоящее время Анатолий Осмоловский - художник, который относит себя к новым импрессионистам. Одна из его последних выставок, состоявшаяся в 2014 году, называется "Изысканный труп и двенадцать самоубийств". Она была размещена в галерее итальянского города Бергамо.
В настоящее время Анатолий Осмоловский - художник, который относит себя к новым импрессионистам. Одна из его последних выставок, состоявшаяся в 2014 году, называется "Изысканный труп и двенадцать самоубийств". Она была размещена в галерее итальянского города Бергамо.
Выставка называется так же, как и центральная работа всей экспозиции. Методика создания произведений схожа с работой сюрреалистов, которые писали коллективные тексты или картины. Причем каждый участник что-либо изображает или пишет, не зная, что изобразили остальные участники.
Центральное место в этой выставке занимает нимб, который отсылает зрителя к вечному спору Запада и Востока о свой культуре. Причем причиной конфликта Анатолий Осмоловский, картины которого завораживают зрителей, видит в способе представления каждой культурой своих сюжетов и священных текстов.
Роли в кино
 Известен и как актер Осмоловский Анатолий. Работы его хорошо знакомы знатокам отечественного кинематографа.
Известен и как актер Осмоловский Анатолий. Работы его хорошо знакомы знатокам отечественного кинематографа.
Интересный факт: именно он исполнил одну из главных ролей в артхаусной трагикомедии Светланы Басковой "Зеленый слоник". Картина снята в "мусорной" внежанровой эстетике, представляет собой антимилитаристскую притчу.
Осмоловский играет роль капитана, начальника гауптвахты, на которую попадают провинившиеся младшие офицеры. Оба оказываются в камере, стены которой покрашены в зеленый цвет.
Картина вызвала неоднозначные отзывы от кинокритиков, некоторые даже посчитали ее самой омерзительной в истории кино. Сама режиссер считает, что в фильме отражены темы человеческого достоинства и офицерской чести, который сильно дискредитировали себя в России в 90-е годы.
Высоко оценивал проект художник Осмоловский, а продюсер Олег Мавроматти отмечал, что это картина про силу слабости и представляет собой важную социальную метафору жизни нашего общества.
www.syl.ru
Анатолий Осмоловский - история жизни и творчества
Анатолий Осмоловский - очень популярная и явно неоднозначная фигура современной культуры России. В нем замешан коктейль из талантливого художника и внимательного куратора, оппозиционного политика и эпатажной личности.

Всем его действиям присущи юмор и цинизм, находящиеся на грани фола. Некоторые его перформансы явно нарушают Уголовный кодекс, но преследуют благие цели. Он родился в СССР и взрослел в бурные перестроечные времена. Что за человек Анатолий Осмоловский? Биография и творчество данного человека будут рассмотрены далее.
С чего все начиналось
Осмоловский Анатолий Феликсович родился в 1969 году в Москве. И первые пробы пера он делал именно на литературном поприще в беспокойное время перестройки. В 1987 году он присоединился к малоизвестной литературной группе «Вертеп», сменив через год членство на другую группу более критической направленности, с названием, соответствовавшим духу того времени - «Министерство ПРО СССР». О его деятельности в те времена известно, к сожалению, немного.
Движение Э.Т.И.
Свой талант художника Анатолий Осмоловский начал проявлять в начале 90-х, когда возглавил одиозное движение Э.Т.И. (Экспроприация территории искусства). Это был своеобразный эксперимент деятелей искусства, которые хотели выразить свое отношение к определенным событиям необычными способами.
Например, одной из первых акций был перформанс на прощальном матче легенды советского футбола Федора Черенкова. Один из основателей движения как болельщик впервые в истории СССР выбежал на поле и, пожав руку Черенкова, убежал. Конечно же, после этого его схватили милиционеры. Но это был первый в истории такой забег болельщика на поле в СССР.
Другой необычной акцией стал фестиваль «Взрыв Новой волны», на котором показали 15 самых лучших фильмов французских режиссеров авангардной новой волны. В конце фестиваля на показе фильма «Зази в метро» организаторы решили вовлечь зрителей в ретроспективу: на сцене актеры повторяли фрагменты из фильма, затем забрасывали друг друга и зрителей тортами, и в завершение на всех накинули сеть.
Анатолий Осмоловский был идейным вдохновителем одной из самых скандально известных акций, в результате которой телами участников выложили известное нецензурное слово из трех букв. Акция была своеобразным саркастическим шаржем на вышедший недавно закон о нравственности и проводилась накануне дня рождения Ленина. Конечно же, на всех участников открыли уголовное дело, закрытию которого поспособствовала культурная элита того времени. Искусствоведы считают эту акцию началом движения «акционизма» не только в Москве, но и по всей России.
Напоминаем, что Анатолий Осмоловский, фото которого можно увидеть в статье, был одним из организаторов данной акции.

Последней акцией группы стала так называемая «Расчистка»: участники хотели расчистить снег на земле, выделенной под футбольное поле, и сыграть на нем, но их задержала милиция. Анатолий Осмоловский принимал активное участие в подготовке этой акции.
Группа Э.Т.И. распалась в 1992 году, когда программа, по словам организаторов, была исчерпана.
Многогранная личность
После этого Анатолий Осмоловский работал недолгое время редактором неоднозначного культурного журнала «Радек», вышедшего всего тремя номерами и возродившегося в 2000 году уже в виде культурного общества.
В 1993 году Анатолий организовал «Нецезиудик» — некий симбиоз выставочно-перформансной деятельности. Этим движением Осмоловский опять пытался пересмотреть устои адептов постмодернизма, делая выставки и инсталляции, которые подрывали устоявшиеся понятия нового искусства.
В 1995 году сенат города Берлина и выставочный культурный центр современного искусства Kunstlerhaus Bethanien выделили художнику грант за выдающиеся успехи в продвижении необычных видов искусств в массы.

В 2008 году талант Осмоловского был оценен. Его сделали лауреатом премии Кандинского как «Художника года».
В последующие годы Анатолий активно принимал участие в культурной жизни, проводя различные выставки, издавая книги, снимаясь в кино, организовывая предвыборную гонку и, конечно, эпатируя публику своим поведением.
Художник, признанный во многих странах
Его талант художника по достоинству оценен зрителями и искусствоведами, ведь его картины выставлены и хранятся как в музеях России, например в государственной Третьяковской галерее в Москве, так и за рубежом (галерея «Людвиг Форум» в Германии, Музеи современного искусства в Любляне (Словения) и Антверпен (Бельгия)).

За все эти годы он принимал участие во многих персональных и групповых выставках, каждая из которых являлась не просто выставкой картин, но манифестом постмодернизма и его отношением к реалиям современного мира. Ведь Анатолий Осмоловский — это не только современный художник, а и многогранный творец, гениальные идеи которого не всегда можно воплотить, только лишь положив их на холст.
Осмоловский - ректор?!
Одним из последних необычных проектов Осмоловского стала организация института «База», в котором он является ректором. Концепция института отличается от простого обучения искусству в обычном понимании такого рода заведений. Это обучающе-исследовательская площадка для людей, способных мыслить и желающих научиться этому. Для тех, кто готов выдвигать неординарные решения и рушить устои современного искусства. Для всех, кто неординарен, одарен и смел.
fb.ru
Анатолий Осмоловский: «Мы стоим на пороге революционных событий»
Анатолий Осмоловский. Фото: Алексей Гущин
Мария Кравцова: Ты сотрудничал со многими известными московскими галереями, но так и не вошел в пул ни одной из них. И, в твоем случае, это вполне осмысленная политика.
Анатолий Осмоловский: На мой взгляд, в России не было и нет галерей в западном смысле этого слова. Сейчас я работаю с итальянской Thomas Brambilla Gallery. Она молодая, но очень хорошая. Я работал и с другими западными галереями, но не всегда это был позитивный опыт.
М.К.: Получается, что нет правды на земле, но правды нет и выше. Ты только что признался в том, что у тебя негативный опыт сотрудничества с западными галереями. Так чем же плохи наши?
А.О.: Если мы будем говорить о галерее в ее в идеальном понимании, то на Западе все галереи следуют определенным правилам игры. Во-первых, галерист формирует так называемую конюшню, в которую входят от трех до шестнадцати художников. Количество художников прямо пропорционально финансовым возможностям галереи. Если галерея не обладает большим финансовым потенциалом, она работает с небольшим количеством художников, если она более или менее сильная и влиятельная, то может позволить себе работать с бóльшим количеством авторов. Почему шестнадцать, а не двадцать пять? Потому что все-таки желательно раз в год или полтора делать выставку художника, с которым ты работаешь.

Анатолий Осмоловский. Кое-что, время от времени выпадающее из мусорного бака. XL Галерея, 20–27 ноября 1996. Courtesy XL Галерея
М.К.: Пока не вижу существенных отличий от наших галерей.
А.О.: Дай договорю. Что значит «работать» с художником, особенно «работать» с молодым художником? Это значит безостановочно вкладывать в него деньги. Обычно на то, чтобы «воспитать» молодого художника, уходит семь лет. Если за это время художник не получает признания (при этом я совсем не имею в виду признание рынком), то галерист либо разрывает с ним контракт, либо, если сильно верит в него, продолжает бороться. У нас этого ничего нет.
М.К.: Почему же. Могу привести тебе в качестве примера художницу Иру Корину — совершенно некоммерческого автора. Тем не менее ее «открыла» и уже более десяти лет с ней работает XL Галерея. Очевидно, что для XL это имиджевый автор.
А.О.: Я могу привести несколько таких примеров, но я знаю и художников, которые были похоронены в этой галерее. Например, Людмила Горлова.
М.К.: По-моему, в том, что Людмила Горлова исчезла с художественного горизонта, виновата не XL Галерея, а сама Людмила Горлова. Если художник не может работать с какой-то институцией, ему никто не мешает найти другую, где ему было бы комфортно и где его понимали бы.
А.О.: Короче, когда в нулевые годы в Москве начали появляться галереи нового типа (условно назовем их олигархическими), я начал говорить нашим галеристам, что надо делать апгрейд их собственных институций, которые, напомню, сформировались еще в 1990-е годы. Я говорил, что началась новая эпоха, и она требует новых подходов. Но реальный, хотя и несколько специфический апгрейд произошел только в галерее Гельмана: Марат просто ушел из галереи и начал делать музей.
М.К.: Мне кажется, что хотя Марат официально и «ушел» из галереи, неофициально он остался ее идеологом и принимал все важные решения. С его «уходом» ничего не поменялось. Те же авторы, те же стратегии, та же политика.
А.О.: В любом случае в нулевых старым московским галереям я предпочел новый формат галереи Stella Art, где тогда работала Тереза Мавика и все делалось на высоком профессиональном уровне. Мне нравилось, что каждая выставка в этой галерее сопровождалась каталогом, была разработана определенная стратегия лоббирования художника, расписана выставочная программа на год вперед. И самая важная деталь — между мной и галереей был подписан контракт, в котором были оговорены мои обязанности и обязанности галереи.

Анатолий Осмоловский. Изделия. Stella Art Gallery в Скарятинском переулке, 22 сентября – 12 ноября 2006. Courtesy Stella Art Foundation
М.К.: Можно с этого места поподробнее, что было в этом контракте?
А.О.: В нем указывались проценты, которые получает художник в случае продажи галереей его произведения, а также оговаривалось, сколько и в каких объемах галерея вкладывает в художника.
М.К.: Ты можешь назвать суммы?
А.О.: Это было давно, я уже не помню. Но могу сказать, что от цены продажи художник должен был получать 50%.
М.К.: Тоже вполне российская практика.
А.О.: На Западе сотрудничающий с галереей известный художник может получать 80% от продажи его произведения, а неизвестный, начинающий — 30%. Западные галереи также гарантируют, что из тех 50%, которые они обычно берут себе после продажи произведения, 30% они вложат в дальнейшее развитие этого автора, в производство новых работ, выставок, в издание каталога. Здесь такого я никогда не видел.
М.К.: Я помню твою выставку «Как политические позиции превращаются в форму» в Stella Art, она действительно была для тебя этапной. Но я также знаю, что изначально ты делал ее для галереи Марата Гельмана, но в последний момент переметнулся к Стелле Кесаевой. То есть, грубо говоря, кинул Марата с выставкой.
А.О.: Я бы не назвал это словом «кинул». Марат сам меня неоднократно кидал, но в нашем мире это абсолютная норма. В случае с этим проектом я совершенно ничем не был обязан Гельману, потому что делал все объекты за свой счет. Я пришел к Марату, предложил сделать такую выставку, Марат согласился. Моим условием было издание каталога. Но в галерее почему-то видели этот каталог как книжку, посвященную моим работам 1990-х годов. Я подумал, что это бессмысленно: зачем сопровождать новую выставку художника рассказом о его былых свершениях? И потом, мало кто у нас понимает, что каталог сам по себе должен быть арт-объектом, что он не столько выполняет промоутерскую функцию, сколько является документом эпохи. И именно такой каталог у меня получилось сделать в Stella Art. В общем, я не кидал Марата, просто галерея Stella Art мне предложила более выгодные условия, причем в творческом, а не коммерческом плане. Гарантий того, что Stella Art будет продавать мои работы, не было, ведь в то время не было и самого рынка.

Анатолий Осмоловский. Как политические позиции превращаются в форму. Stella Art Gallery на Мытной улице, 23 декабря 2004 – 29 января 2005. Courtesy Stella Art Foundation
М.К.: Хорошо, что еще отличает западные галереи от наших?
А.О.: Дружба. Западный галерист создает для своего художника более комфортные условия, он дружит с ним, а нередко по-настоящему его любит, даже преклоняется перед ним. Он, конечно, не ползает перед художником на коленях и не целует его ботинки, он выслушает автора, обсуждает с ним проекты, а не пытается навязывать свое видение того, как и что автор должен делать.
М.К.: С тобой такое случалось в русских галереях?
А.О.: Елена Селина пытается диктовать.
М.К.: По-моему, тебе особенно не подиктуешь, что делать.
А.О.: Вообще с Селиной у меня всегда были прекрасные отношения, и претензий в плане сотрудничества у меня к ней нет. До меня просто доходят слухи, как она работает с другими авторами. В качестве еще одного примера авторитарной по отношению к художнику галереи я могу привести галерею «Триумф», владельцы которой придумывают работы за своих художников.

Анатолий Осмоловский. Приказ по армии искусств. Инсталляция. XL Галерея, 19 ноября – 3 декабря 1997. Courtesy XL Галерея
М.К.: Хорошего художника нельзя сломать об колено.
А.О.: Художник, который позволяет сторонним лицам вмешиваться в свой проект, — не художник, а дизайнер. Зачем с таким сотрудничать? Зачем блефовать и надувать мыльный пузырь, зачем всем пудрить мозги? Этот «художник», уйдя из галереи, превратится в полный ноль, а это бессмысленно, неэффективно и экономически невыгодно прежде всего для этой самой галереи. Но и этого наши галеристы почему-то не осознают. И вообще, когда я говорил, что в России нет и не было галерей в западном смысле этого слова, я имел в виду то, что у нас галереи изначально были скорее интеллектуальными клубами и клубами по интересам. Яркий пример — XL — галерея, акцентированная на интеллектуальное и проектное искусство. К тому же нашим галереям так и не удалось выйти на международный уровень. Единственная галерея, которая пытается здесь функционировать в западном формате, — это галерея «Риджина». Она по праву вошла в базельский пул. Но и тут есть одно «но». Я узнавал у западных коллег, почему в пуле ведущих западных ярмарок существует лишь одна вакансия для русских галерей. Мне объяснили, что количество вакансий зависит от количества коллекционеров, которые приезжают из той или иной страны на ярмарку, причем эти коллекционеры должны быть активными покупателями, а не просто туристами. То есть если от страны приезжает три или четыре коллекционера, то галерейное сообщество этой страны получает одно место на ярмарке, а если 150 коллекционеров — то 20 мест. Еще одна проблема российских галерей и кураторов заключается в том, что все они неопытные люди, а Запад живет по двойным стандартам и негласным правилам, которых наши не знают.
М.К.: А ты знаешь эти правила?
А.О.: Нет.

Анатолий Осмоловский. Простыни. Инсталляция. XL Галерея. 26 мая – 13 июня 1999. Courtesy XL Галерея
М.К.: Очевидно, что и западные галереи сегодня переживают кризис. В рубрике «Новости» мы сообщаем о закрытии тех или иных галерей, причем некоторые из них существовали по сто лет.А.О.: В либеральной экономике большие монстры пожирают малых, это происходит и в галерейной среде, где происходит монополизация искусства. Кто-то закрывается, а галерист Ларри Гагосян только и делает, что открывает филиалы своей галереи в разных странах. По сути, сейчас происходит концентрация власти и денег в немногих руках. В России этого нет, потому что нет рынка.
М.К.: О том, что нет рынка, говорят все галеристы. У нас мало коллекционеров и почти нет привычки покупать искусство. Кем для тебя является коллекционер?
А.О.: Коллекционер — это человек, который себя реализует через покупку произведений. Это значит, что он должен разбираться в искусстве, любит его, разделяет взгляды на определенные ценности. Если ты любишь Деймиана Херста, надо любить и гламурную жизнь, кокаин, моделей, групповой секс, английское извращенное поведение. Если человек собирает концептуальное искусство, он должен придерживаться другой системы ценностей. Есть социально ориентированное искусство и есть люди, которые его собирают или поддерживают социально ориентированных художников. И это тоже совсем другой тип отношений — кокаин им уже не приличествует. Собиратель может вырасти из той или иной среды или же в ту или иную среду войти. У коллекционера могут быть прагматические интересы или чисто альтруистические — например, человек может разделять ценности социальной ангажированности, социального партнерства и ответственности. В этом кругу он проявляет себя, и покупка произведений искусства в этом контексте зачастую может быть помощью этой среде. К тому же не будем забывать, что, в отличие от России, западные художники, продавая свое искусство, вкладывают эти деньги в новое искусство.

Анатолий Осмоловский. Простыни. Инсталляция. XL Галерея, 26 мая – 13 июня 1999. Courtesy XL Галерея
М.К.: Сейчас много говорят о том, что люди, которых власть назначила быть богатыми, перестали быть уверены в своем будущем или же связывать свое будущее с этой страной. И если в нулевые именно они были главными покупателями искусства, то сейчас ни о покупках, ни тем более о коллекционировании не может быть и речи. А новые богатые — это чиновники, которые по понятным причинам не афишируют свои доходы, да и сам феномен современного искусства им очевидно не близок. Параллельно с этим уже несколько лет сообщество с удовольствием обсуждает то, что государство может, при определенных усилиях сообщества, в какой-то момент поддержать современное искусство, стать не только его донором, но и заказчиком. Такой сценарий тебе кажется возможным?
А.О.: Те люди, которые стоят во главе нашего государства сегодня, патологически не понимают смысла института современного искусства, поэтому смычки существующей власти и современного искусства не произойдет. Но при этом я полагаю, что мы стоим на пороге революционных событий, нового 1968 года. Конечно, это не будет полным повторением событий в Европе, более того, все будет развиваться по сценарию «хотели как лучше, получилось как всегда».
М.К.: Но события 1968 года во Франции как раз привели к тому, что к власти пришло левое правительство, которое начало рассматривать современное искусство как важный социальный институт и активно взаимодействовать с ним.
А.О.: В западном обществе институт современного искусства по своей важности не уступает независимым судам. Искусство — это один из китов, на котором стоит западная демократия. Но Россия — не Запад, и сегодня в ней создана удушливая культурная атмосфера. Я полагаю, что в ближайшее время будут предприняты попытки взаимодействия власти и современного искусства, но попытки эти будут носить симуляционный характер. Интеллигенции бросят кость, например, в виде нового государственного музея современного искусства. С другой стороны, может быть, наша интеллигенция и мечтала бы о сотрудничестве с государством, но на самом деле она не готова к этому. Если сейчас в область культуры государство вольет большое количество денег, интеллигенция просто не сможет их освоить: ее мало, она некомпетентна, она не готова к реальному строительству. Более того, проблема всех нас, и в том числе меня, заключается в том, что все мы люди андерграундной культуры. Это совсем другой тип мышления, другой тип взаимоотношений с обществом. В качестве примера я приведу куратора Андрея Ерофеева. Чаще всего он выступает не как куратор, который должен примирять искусство и общество, а как человек, который постоянно идет на обострение конфликта между этим самым искусством и этим самым обществом. Это совершенно не профессиональная, не кураторская позиция, на обострение должны идти художники. Но вообще у меня есть гипотеза, согласно которой все, что происходит сейчас с московскими галереями, — по сути один из таких симуляционных проектов слияния государства и современного искусства. Марат Гельман нашел федеральное финансирование на свою деятельность, но условием получения этого финансирования было то, что коммерческие организации превратятся в нонпрофитные выставочные залы.
М.К.: Ну положим, ты прав, но неужели Марат решил поделиться этим финансированием с товарищами Салаховой и Селиной? Марат всегда действует только в своих интересах.
А.О.: Это несомненно, но чтобы реализовать свои интересы, ему нужны статисты в этой игре.

Анатолий Осмоловский. Хлеба. Галерея М&Ю Гельман, 5–20 февраля 2008. Courtesy Гельман Галерея
М.К.: Галеристы последнее время все больше говорят о том, что кроме экономических трудностей они испытывают общественное давление, связанное с тем, что сообщество резко полевело. Галеристов начали воспринимать как капиталистов-эксплуататоров, которые выжимают соки из художников. При этом для меня наши художественные левые — скорее не левые в нормальном смысле этого слова, а богемиан буржуа, бобо, чьи декларации сильно противоречат их реальному образу жизни.
А.О.: Есть еще понятие «радикал-шик». На Западе существует большое количество левых субкультур, и у каждой из них свой кодекс поведения и свои коды общения. Например, радикальные немецкие левые 1960–1970-х не ели продукты фирмы Nestle, в этой субкультуре было запрещено называть имена определенных политических и культурных деятелей, был объявлен языковый бойкот определенным лицам (но высокая степень языковой дисциплины свойственна немцам, что называется, «по жизни»). Но при этом эти левые много говорили о том, что выстраивают свою культуру не от аскетизма, а от переизбытка. И в этом смысле носить качественные с точки зрения дизайна вещи в этой культуре не возбранялось.
М.К.: Я не говорю о том, можно или нельзя носить сумку Chanel, я о том, что в нашем конкретном художественном сообществе сейчас вошло в моду быть левым, о том, что образ жизни наших «левых» прямо противоположен их риторике.
А.О.: Радикалы могут выстраивать свою политику от избытка, а не от недостатка. Но это не значит, что в левом движении нет других субкультур. Мне тоже не нравится гламуризация протеста, но при этом я понимаю, что, возможно, дело в том, что я человек глубокого подполья. В 1990-е годы, занимаясь перформансом, я жил в вакууме. Концептуалисты ненавидели все, что я делал. Но когда человек долгое время находится в безвоздушном пространстве, у него развивается идиосинкразия к любым коммуникациям. Все они кажутся неестественными, продажными. То есть я не исключаю того, что устарел именно я и именно я чего-то не понимаю в происходящем. С другой стороны, работая над альманахом «База», посвященным французскому теоретическому изданию Tel Quel, я понял, что в 1960-е годы все это было тоже очень модным — левая идеология, левая система ценностей. И в какой-то степени этим людям повезло в том, что благодаря моде они легко впитали эту систему. Я думаю, что должен быть определенный опыт в восприятии идеологии. И сейчас молодые люди получают этот опыт. Кто-то разочаруется, кто-то сломается, превратится в медийного клоуна, кто-то сможет отстоять свою самость. Есть субкультура, которая складывается вокруг художника Дмитрия Виленского, а есть субкультура, которая складывается вокруг группы «Война» и Pussy Riot. К «Войне» я отношусь скептически, а вот Pussy Riot считаю героинями. В отличие от «Войны» они художественное явление, их цветные одежды я называю бунтом цвета и связываю с постживописной абстракцией, абстракцией, которая вышла на улицы.

Анатолий Осмоловский. Как политические позиции превращаются в форму. Stella Art Gallery на Мытной улице, 23 декабря 2004 – 29 января 2005. Courtesy Stella Art Foundation
М.К.: В этом году у меня юбилей — 10 лет в сообществе. И надо сказать, я никогда за эти годы не видела его столь расколотым, разделенным на секты.
А.О.: У меня тоже есть это ощущение. Но мне кажется, что это хорошо.
М.К.: Ты только что говорил, как тебя не любили сектанты-концептуалисты.
А.О.: То, что происходило в искусстве тогда, можно назвать гегемонией и беспределом. Мы даже называли художников концептуального круга «КПСС» — Концептуальной партией Советского Союза. Потому что идеология концептуальной секты во многом была скалькирована с идеологии доминирования советского государства. Если ты не был близок к концептуальному кругу, тебя могли выбросить из выставки, сейчас же не идет речи о таких вещах. В нашем случае атомизация сообщества — скорее позитивный процесс. Ведь атомизируются не отдельные люди, а целые группы. Виленский — это один круг людей, идущие в сторону гламуризации Илья Будрайтскис и Арсений Жиляев — другой круг людей, радикальные Pussy Riot — третий. Я даю шанс всем. Мне кажется, что у каждой из этих историй есть свой потенциал.
artguide.com
«Искусство начинается с достоинства и самостоятельности художника» — Aroundart.org

Фрагмент работы Александра Плюснина «Нижний слой», Музей Москвы, Москва, 2014
Фото: Ольга Данилкина
В Музее Москвы проходит выставка «Живопись расширения» под кураторством Евгении Кикодзе (Музей Москвы) и Анатолия Осмоловского (Институт «База»). «Что такое современная живопись и где ее место в актуальных практиках искусства?» — этот вопрос все отчетливее звучит на местной сцене, и эта выставка — не исключение. Работы одиннадцати авторов — как известных современных художников, так и совсем молодых — объединены общим свойством: это живопись, которая так или иначе «расползлась» в другие контексты или жанры. О том, почему живопись обладает наибольшим потенциалом автономии и зачем эта автономия художнику нужна, Анатолий Осмоловский рассказал Ольге Данилкиной.
Ольга Данилкина: В выставке участвуют работы и зрелых художников, и молодых, в частности, ваших студентов. Как она состоялась, как вы выбирали художников и почему на ней оказались именно они?
Анатолий Осмоловский: Сама идея этой выставки возникла после прочтения статьи Дэвида Джозелита «Живопись вне себя» (Joselit D. Painting Beside Itself // October No. 130, Fall 2009), которую мы перевели для ближайшего номера журнала «База». Я задумался, есть ли у нас художники, которые в своей работе проявляют то, о чем пишет Джозелит. В институте «База» мы делаем регулярные смотры работ раз в две недели в учебных целях: на одной из таких внутренних выставок я заметил, что два студента очень подходят под эти параметры. Первый — это Ваня Новиков, он делает инсталляции с пигментом. В частности, здесь представлен ремейк его проекта «Умвельт» в галерее «Комната», который сгорел вместе галереей во время пожара осенью. Там он создал инсталляцию: поставил комнатные цветы и повесил холсты, а листья цветов немного разрисовал пигментом. Я посчитал, что в первой версии была недостаточно заметна живопись на самих листьях — она была сделана очень небрежно и не акцентированно. Здесь он как раз постарался, она действительно заметна. Второй художник — Николай Сапрыкин: у него живопись расползается на разные предметы или предметы становятся элементами живописного языка.
Я стал искать других художников, поговорил с Евгенией Кикодзе из Музея Москвы, предложил ей тоже подумать над этой проблемой. Она привезла из Санкт-Петербурга нескольких художников. Среди них — Платон Петров. Он делает довольно традиционную минималистическую живопись, но в ней есть один важный нюанс — он закрашивает торцы, то есть они являются продолжением живописного пространства. Этот ход, конечно, уже известен, можно вспомнить Фрэнка Стэллу. На этой выставке этот ход очень важен — он как бы показывает самое минимальное расширение живописи. Остальные работы — это уже более радикальные проявления этого расширения: живопись выползает на фикусы, как у Новикова, попадает во временной контекст, как у Лены Ковылиной, которая нарисовала будущий перформанс, еще не ссостоявшийся, и так далее. Виктория Бегальская нарисовала трансгендера, который должен был приехать на открытие, но не приехал — это большое упущение. Самыми радикальными, мне кажется, являются объекты Александра Плюснина. Радикальность здесь состоит в том, что это вообще не живопись, а только ее следы и одновременно переход из живописи в скульптуру. Может быть, эту работу можно было сделать технически лучше, у меня есть ряд претензий — например, мне нравится именно тот объект, где внутри гипса остались куски краски, нужно было настойчивее добиваться этого эффекта. Но в целом эта идея вызывает уважение своей уникальностью, радикальностью и фантазийностью.
В то же время я бы не стал настаивать на том, что выставка — это манифест или попытка представить какое-то движение, тенденцию. Скорее это исследовательский проект, попытка на нашей достаточно унылой сцене представить иной взгляд на то, что такое живопись, предложить новую координату для ее рассмотрения.
 Виктория Бегальская «Лера Громова», Музей Москвы, Москва, 2014
Виктория Бегальская «Лера Громова», Музей Москвы, Москва, 2014 
 Алена Терешко, «Автопортрет», Музей Москвы, Москва, 2014
Алена Терешко, «Автопортрет», Музей Москвы, Москва, 2014 
 Иван Новиков «Без названия», Музей Москвы, Москва, 2014
Иван Новиков «Без названия», Музей Москвы, Москва, 2014 
ОД: В тексте к выставке вы противопоставляете просто живопись расширенной живописи. Чем в вашем представлении является современная живопись сама по себе?
АО: Это большой вопрос. В западной культуре живопись развивается до сих пор, несмотря на ее бесконечные похороны. Я вообще думаю, что чем больше цифра будет входить в нашу жизнь и в искусство, тем больше будут цениться те виды искусства, что ей не подвластны, а живопись одна из них. Сейчас современными и наиболее интересными живописцами можно назвать: в Великобритании — Питера Дойга, в Голландии — Люка Тюйманса, в Германии — представителей новой волны Лейпцигской школы, это Маттиас Вайшер, Давид Шнелль и другие.
Главным определителем «современности» в живописи, если очень огрублять, для меня является традиционная проблема рефлексии относительно плоскостности и пространства. Возможно ли заново создать пространство внутри холста? Возможно ли изобразить что-то, обладающее пространственным измерением на холсте? Самым манифестационным художником в этом смысле является Давид Шнелль. Его работы представляют из себя некое абстрактное пространство, внутри которого летают глыбы плоскостей — как будто кто-то ударил молотком по холсту и его плоскость рухнула внутрь в картинное пространство. Петер Дойг, наверное, тоже об этом, но немного по-другому. Однажды в беседе художник Юрий Лейдерман, который относительно недавно обратился к живописи, сказал мне, что ему у Дойга очень нравится некая неравновесность композиции. Именно это Юра считает одним из аспектов современной живописи. В классической картине важно, чтобы композиция была крепко сбита — в ней понятно, где граница, содержимое вписано в эту рамку, а те или иные цветовые массы гармонично расположены, и нет ничего лишнего. В то время как в современной живописи идет разговор об обратном: композиция разваливается или не вписывается в холст, все классические правила не работают или работают, но иначе. В этом смысле еще интересен Люк Тюйманс — он пишет блеклыми красками. «Октябристы», то есть критики журнала October, интерпретируют его изображения как меланхолические остатки воспоминаний, образы из сна, но не сна художника, а метафорического сна цивилизации. Он рисует Нельсона Манделу, Малькольма Икс, каких-то женщин с невообразимыми грудями…
ОД: А что вы думаете про местный контекст?
АО: В Москве вообще нет живописи, нет школы — ее как таковой не сложилось. У нас в 1985—1987 годах возникла группа «Детский сад», в которой были Андрей Ройтер, Николай Филатов и другие — они могли создать какую-то новую школу, но эта группировка распалась. Ройтер эмигрировал в Голландию, Филатов — в Америку. Все они стали испытывать чрезвычайное давление концептуализма. Я не помню, чтобы после этого были серьезные попытки заниматься живописью. Вика Бегальская — по большому счету украинка, и если мы посмотрим на ее живопись, то это украинская школа живописи. Есть еще Тимофей Караффа-Корбут: я пока не понимаю, что он делает, но его примитивистские зоопарковые картины мне кажутся интересными, они создают странный эффект ненужности, неуместности.
Выставка «Живопись расширения» — это и есть попытка процесс подтолкнуть, вернуть стремление к медиуму живописи. Такие интересные вещи, как работы Караффа-Корбута, повисают в воздухе именно потому, что здесь нет плотного живописного контекста. Условно говоря, это такая белая ворона. В каком-то смысле вся наша выставка — и есть некое собрание белых ворон. Может быть, благодаря таким выставкам, возникнет такое целое направление «белые вороны». Осенью этого года мы планируем сделать выставку в пространстве ЦСИ «Винзавод» с художниками из мастерской на улице Буракова — это Давид Тер-Оганьян, Алиса Йоффе, Света Шуваева, Саша Галкина и другие. К этой выставке я хочу сделать каталог, в котором помимо живописи будет поэзия. Это продиктовано тем, что в этом коммьюнити у ребят большой драйв, всякие рэп-команды и прочее, что я считаю, очень хорошо, потому что одно поддерживает другое. Главным на Буракова является их драйв, там почти нет формалистических изысков. В то время как у их младших коллег из института «База» наоборот — чрезвычайно большое количество формализма и меньше драйв. Одни драйвовые без формализма, другие формалистичные без драйва — может быть, потом они как-то объединятся, а может, и нет.
ОД: Целый ряд современных медиа вышли из живописи. Что в ней сейчас может быть привлекательным для художника, чем она потенциально интереснее других медиа?
АО: Это тоже довольно непростой вопрос — «почему живопись?» Она всегда была привлекательна: я не живописец, но испытываю белую зависть к тем, кто этим занимается. Я думаю, что в живописи есть один аспект, который не совсем осознается художниками, он есть и в России, и на западе. Художники, заигрывая последние 20–30 лет (начиная с эпохи постмодернизма) с различными смежными областями, междисциплинарностью, межжанровостью, потеряли два важных этических аспекта искусства — это его Самостоятельность и Достоинство. Это состояние сейчас хорошо иллюстрирует ситуация на Украине. Когда произошли события на Майдане, Юрий Лейдерман сказал, что возникла украинская нация. Она возникла в тот момент, когда люди осознали свое достоинство. Мне кажется, что художникам тоже необходимо понять и осознать, что такое наше достоинство и наша самостоятельность, в том числе, и вне институций. Против последних я ничего не имею, но если мы будем на них уповать как на патерналистскую систему, которая должна нас куда-то вести, то ничего путного не выйдет. Искусство начинается с достоинства и самостоятельности художника, с его личного высказывания, которое звучит: «Я есть такой какой есть».
За последние пару недель, как мне представляется, в истории нашей страны произошло такое же серьезное изменение, как в 1991 году. К власти пришел пока не фашистский, но квазе-фашистский режим. Я наблюдал то, что происходит на телевидении — при советской власти я не видел такого шовинизма и бреда. Когда состоялся референдум, на одном из центральных каналов показывали политическое ток-шоу в прямом эфире, в котором участвовали довольно приятные молодые, по-европейски выглядящие люди. В конце программы, когда были объявлены предварительные итоги референдума в Крыму, все люди в студии вдруг встают и начинают петь гимн России, причем показывается это действо с первой до последней минуты, периодически совершаются «наезды» камеры на лица этих «менеджеров», чтобы было понятно, что они знают слова. Другими словами, мы теперь живем в другом государстве, и не ясно, каким оно будет. Все те, кто выступал за мир, теперь открыто считаются пятой колонной и врагами народа. Конечно, у Путина нет такого механизма, как у Гитлера, ведь у того была жуткая человеконенавистническая партия, но мы пребываем, наверное, в режиме Салазара или Франко — где-то там. Так как мы сейчас присутствуем при кардинальном историческом событии, и оно не радует, то в новых условиях как раз достоинство и самостоятельность будут самым главным. Без них в этом режиме будет невозможно выжить. И живопись в этом смысле обладает бОльшим потенциалом автономии, чем другие медиа.
ОД: В то же время мы видим невообразимые холсты с Путиным в духе соцреализма, да и картина — любимый медиум и камень преткновения для консервативной части населения этой страны, которая как раз ничего не понимает, да и не хочет понимать в современном искусстве. Как быть с этим?
АО: Конечно, это не просто, но живопись сама по себе имеет действительно большой ресурс автономии по многим причинам. Одна из них — это очень большой риторический ресурс личного мнения, ведь то, что сделано на холсте, можешь сделать только ты и никто другой, это более персональное высказывание. Этого даже меньше в скульптуре, где более распространены цеховые методы построения работы. В живописи такой «цех» — это редкость, да и чтобы его создать, самому художнику нужно долго всех учить. Сама по себе картина может быть и в высшей степени реакционной, но современные художники должны попытаться выстроить заново то, что должно быть разрешено, что может быть на холсте. Наша выставка – ответ на часть этих вопросов.
В современных условиях говорить о реинкарнации какого-либо вида реализма не приходится, потому что он будет абсолютно конгруэнтен беспределу, что сейчас происходит – реализм как риторическая фигура соответствует этому безумному пению гимна хором на телевизионном ток-шоу в течение трех минут.
ОД: Вернусь к выставке — тут и расширение в стрит-арт, и в перформанс, и многое другое. До какой степени, на ваш взгляд, живопись может расширяться в разных направлениях, при этом оставаясь живописью?
АО: Я бы сказал, что в этом смысле я экстремист: я считаю, что живопись должна расшириться до такой степени, чтобы вместо этих дураков на экране телевизора выступали художники и обсуждали принципы расширения живописи. Вообще я считаю, что искусство — это альтетративный политический проект. Он политический не в смысле того, что художники пытаются ответить на те вопросы, на которые отвечают политики, а в том, что он вытесняет из общественного поля взаимную ненависть, которую эти политики обрушивают на общество, и может задать другую повестку дня вообще. Большая проблема в том, что мы здесь, в нашей стране, находимся в маргинальном положении — у нас примерно ситуация Европы в 1959 году. До возникновения Центра Помпиду и всей арт-системы искусство в Европе тоже жило в малых кругах. Такое состояние во многом неприятно, но в нем есть и позитивный момент, а именно — общественная невостребованность, она дает много времени на размышление. Ведь общественная востребованность — это когда куча не очень, мягко говоря, умных людей задают тебе вопросы, на которые ты должен отвечать. Считается, что как раз в то время в западной культуре были сделаны важные художественные открытия, а потом, с 1970-х годов, начались проблемы, а с 1990-х — вовсе гиперпродажи и рыночные мыльные пузыри. Возможно, что платой за невостребованность у нас сейчас будет то, что кто-то сможет здесь что-то серьезное сделать.
ОД: Еще в первом номере журнала «База» вы писали, что творчество должно деконтекстуализироваться, избавляться от контекстов социальных, политических, коммерческих и проч. Получается, пока вы тем убеждениям не изменяете?
АО: Я ничего не имею против гражданской позиции и ее выражения, сам готов помогать — начиная со своего присутствия на митинге, заканчивая идеями. Но это — наша гражданская позиция, и она косвенно имеет отношение к искусству. Искусство должно иметь свое достоинство и быть самостоятельным. Художник может иметь гражданскую позицию, входить в партию, что-то для нее делать. Но я противник того, чтобы подобного типа деятельность выставлять в качестве единственного художественного высказывания. Если вы называете подобную гражданскую деятельность художественным высказыванием, то вы не честны. Ведь здесь разговор идет о принципиально человеческих вещах, а когда они — позиции, ценности — начинают эстетизироваться в качестве автономных произведений искусства, то здесь налицо очевидная спекуляция. Ведь в конечном итоге произведения искусства являются объектами купли-продажи, и становится непонятно, что покупается — искусство или ваши ценности? Эта претензия мне не приходила в голову раньше, ее высказал очень точно Валерий Подорога на одном из последних круглых столов на «Винзаводе». Он сказал, что не может о Pussy Riot ничего сказать как о художественном событии, потому что участницы группы сидели в тюрьме. Само по себе попадание человека в тюрьму накладывает на это событие такой этический груз, что высказываться о нем как об эстетическом феномене чрезвычайно сложно, если вообще возможно. И действительно: если ты скажешь, что Pussy Riot — это плохо, то усугубишь их положение, что хорошо — значит, ты им помогаешь из политических соображений. Там, где вступило в дело насилие, искусство мгновенно испаряется, потому что насилие — с чьей бы стороны оно ни было проявлено — уничтожает дистанцию между зрителем и артефактом. Искусство должно избегать подобных эксцессов.
ОД: То же можно сейчас сказать об уличных перформансах?
АО: Это политика, и она должна строиться по принципам эффективности политического действия — необратимость, массовость, общедоступность и т. п. «Продавать» эти акции — если понимать это слово в широком смысле — не очень этично. И опять же в таком действии теряется Самостоятельность и Достоинство художника.
ОД: В рамках Бергенской ассамблеи в прошлом году был показан фильм Кэти Чухров Love Machines, в котором она намеренно столкнула две противоположные точки координат — дистанцированное восприятие, к которому призывает искусство, и вовлеченность, сопереживание, к котором апеллирует чаще всего театр. В то же время Виктория Бегальская как-то сказала, что живопись — это проекция эмоционального состояния художника. Что для вас значат категории эмоционального в искусстве в разных возможных аспектах?
АО: У меня, безусловно, возникают эмоции, даже мурашки по телу от восприятия того или иного искусства. Это связано во многом с непосредственным переживанием момента здесь и сейчас. Так как я не живописец, мне сложно судить, какую роль могут играть эмоции у живописцев. Дмитрий Гутов иногда говорит, что он бросается на холст с кисточкой и начинает его рвать на куски под музыку Шостаковича. Для меня же процесс работы — вещь совсем не эмоциональная, я не бросаюсь на кусок глины, если леплю скульптуру. Эмоция присутствует в придумывании идеи, возникновении образов, но сам процесс — в нем нет места эмоциям, они только мешают.
 Платон Петров «Персонификация», Музей Москвы, Москва, 2014
Платон Петров «Персонификация», Музей Москвы, Москва, 2014  Экспозиция выставки «Живопись расширения» в Музее Москвы, март 2014 // Фото: Ольга Данилкина
Экспозиция выставки «Живопись расширения» в Музее Москвы, март 2014 // Фото: Ольга Данилкина  Елена Ковылина «Мир», Музей Москвы, Москва, 2014
Елена Ковылина «Мир», Музей Москвы, Москва, 2014 
 Сергей Буравченко «Без названия», Музей Москвы, Москва, 2014
Сергей Буравченко «Без названия», Музей Москвы, Москва, 2014 
Если же говорить об аспекте выразительности, воздействия на зрителя — это тоже очень сложная тема. Эта проблематика возникла как раз в связи с театром и кино — яркий пример тому это голливудское кино, которое спекулирует эмоциями зрителя. Современные технические средства достигли такой степени тотальности, что сложно от этой манипуляции освободиться — люди могут плакать, вставать и петь гимн, источать ненависть и т. д. Я считаю, что это регрессивный и реакционный метод. В этом смысле гимн на ток-шоу — вещь того же разряда, это манипулятивное лживое объединение людей ради решения посторонних корыстных интересов. Подобного типа реакции надо критиковать, вскрывать, не создавать им режим благоприятствования.
Но в то же время, если мы не найдем иную форму эмоционального взаимодействия со зрителем, а останемся исключительно на платформе демифологизации и критики, чем занимаются многие современные художники, то мы проиграем. Нужно искать иные формы выразительности, в том числе и эмоционального воздействия на зрителя, которые не диффузировали с теми, что применяет сейчас власть, но и давали бы определенный эмоциональный контакт. Я в этом смысле являюсь сторонником высказывание Делеза и Гваттари: «Революционная машина — ничто, если она не смогла подчинить себе машину желаний». Если ваше высказывание не желанно, в нем нет эмансипирующего элемента, в том числе эмоционального, то оно всегда будет проигрывать «гимну». В этом стремлении что-то иное противопоставить и располагается искусство XX века — художники пытались (и иногда им это удавалось) найти совсем другие способы выражения, не конгруэнтные власти. Во многом благодаря их нахождению и возникло современное западное общество, более-менее толерантное. Не надо о нем говорить как о рае, но это более-менее технически и эмоционально развитое общество. Мы должны прийти к новой выразительности, предложить что-то другое. Выразительность тесно связана с эстетическими категориями. В этом смысле я считаю историческую абстракцию одной из самых убедительных форм нахождения этой выразительности. Ее до сих пор невозможно использовать в целях «нагнетания напряженности». Но для настоящего момента, конечно, нужно искать новые формы. И это не проблема новизны самой по себе, это способ сопротивления искусства ситуации массовой зараженности общества националистической истерией, что мы можем наблюдать сейчас в связи с событиями в Украине.
aroundart.org
Анатолий Осмоловский: «Искусство начинается с достоинства и самостоятельности художника»

Фрагмент работы Александра Плюснина "Нижний слой", Музей Москвы, Москва, 2014
Фото: Ольга Данилкина
В Музее Москвы проходит выставка «Живопись расширения» под кураторством Евгении Кикодзе (Музей Москвы) и Анатолия Осмоловского (Институт «База»). «Что такое современная живопись и где ее место в актуальных практиках искусства?» — этот вопрос все отчетливее звучит на местной сцене, и эта выставка — не исключение. Работы одиннадцати авторов — как известных современных художников, так и совсем молодых — объединены общим свойством: это живопись, которая так или иначе «расползлась» в другие контексты или жанры. О том, почему живопись обладает наибольшим потенциалом автономии и зачем эта автономия художнику нужна, Анатолий Осмоловский рассказал Ольге Данилкиной.
Ольга Данилкина: В выставке участвуют работы и зрелых художников, и молодых, в частности, ваших студентов. Как она состоялась, как вы выбирали художников и почему на ней оказались именно они?
Анатолий Осмоловский: Сама идея этой выставки возникла после прочтения статьи Дэвида Джозелита «Живопись вне себя» (Joselit D. Painting Beside Itself // October No. 130, Fall 2009), которую мы перевели для ближайшего номера журнала «База». Я задумался, есть ли у нас художники, которые в своей работе проявляют то, о чем пишет Джозелит. В институте «База» мы делаем регулярные смотры работ раз в две недели в учебных целях: на одной из таких внутренних выставок я заметил, что два студента очень подходят под эти параметры. Первый — это Ваня Новиков, он делает инсталляции с пигментом. В частности, здесь представлен ремейк его проекта «Умвельт» в галерее «Комната», который сгорел вместе галереей во время пожара осенью. Там он создал инсталляцию: поставил комнатные цветы и повесил холсты, а листья цветов немного разрисовал пигментом. Я посчитал, что в первой версии была недостаточно заметна живопись на самих листьях — она была сделана очень небрежно и не акцентированно. Здесь он как раз постарался, она действительно заметна. Второй художник — Николай Сапрыкин: у него живопись расползается на разные предметы или предметы становятся элементами живописного языка.
Я стал искать других художников, поговорил с Евгенией Кикодзе из Музея Москвы, предложил ей тоже подумать над этой проблемой. Она привезла из Санкт-Петербурга нескольких художников. Среди них — Платон Петров. Он делает довольно традиционную минималистическую живопись, но в ней есть один важный нюанс — он закрашивает торцы, то есть они являются продолжением живописного пространства. Этот ход, конечно, уже известен, можно вспомнить Фрэнка Стэллу. На этой выставке этот ход очень важен — он как бы показывает самое минимальное расширение живописи. Остальные работы — это уже более радикальные проявления этого расширения: живопись выползает на фикусы, как у Новикова, попадает во временной контекст, как у Лены Ковылиной, которая нарисовала будущий перформанс, еще не ссостоявшийся, и так далее. Виктория Бегальская нарисовала трансгендера, который должен был приехать на открытие, но не приехал — это большое упущение. Самыми радикальными, мне кажется, являются объекты Александра Плюснина. Радикальность здесь состоит в том, что это вообще не живопись, а только ее следы и одновременно переход из живописи в скульптуру. Может быть, эту работу можно было сделать технически лучше, у меня есть ряд претензий — например, мне нравится именно тот объект, где внутри гипса остались куски краски, нужно было настойчивее добиваться этого эффекта. Но в целом эта идея вызывает уважение своей уникальностью, радикальностью и фантазийностью.
В то же время я бы не стал настаивать на том, что выставка — это манифест или попытка представить какое-то движение, тенденцию. Скорее это исследовательский проект, попытка на нашей достаточно унылой сцене представить иной взгляд на то, что такое живопись, предложить новую координату для ее рассмотрения.
jr-mm-02Виктория Бегальская "Лера Громова", Музей Москвы, Москва, 2014
 jr-mm-03
jr-mm-03  jr-mm-04
jr-mm-04 Алена Терешко, "Автопортрет", Музей Москвы, Москва, 2014
 jr-mm-05
jr-mm-05  jr-mm-06
jr-mm-06 Иван Новиков "Без названия", Музей Москвы, Москва, 2014
 jr-mm-07
jr-mm-07 
ОД: В тексте к выставке вы противопоставляете просто живопись расширенной живописи. Чем в вашем представлении является современная живопись сама по себе?
АО: Это большой вопрос. В западной культуре живопись развивается до сих пор, несмотря на ее бесконечные похороны. Я вообще думаю, что чем больше цифра будет входить в нашу жизнь и в искусство, тем больше будут цениться те виды искусства, что ей не подвластны, а живопись одна из них. Сейчас современными и наиболее интересными живописцами можно назвать: в Великобритании — Питера Дойга, в Голландии — Люка Тюйманса, в Германии — представителей новой волны Лейпцигской школы, это Маттиас Вайшер, Давид Шнелль и другие.
Главным определителем «современности» в живописи, если очень огрублять, для меня является традиционная проблема рефлексии относительно плоскостности и пространства. Возможно ли заново создать пространство внутри холста? Возможно ли изобразить что-то, обладающее пространственным измерением на холсте? Самым манифестационным художником в этом смысле является Давид Шнелль. Его работы представляют из себя некое абстрактное пространство, внутри которого летают глыбы плоскостей — как будто кто-то ударил молотком по холсту и его плоскость рухнула внутрь в картинное пространство. Петер Дойг, наверное, тоже об этом, но немного по-другому. Однажды в беседе художник Юрий Лейдерман, который относительно недавно обратился к живописи, сказал мне, что ему у Дойга очень нравится некая неравновесность композиции. Именно это Юра считает одним из аспектов современной живописи. В классической картине важно, чтобы композиция была крепко сбита — в ней понятно, где граница, содержимое вписано в эту рамку, а те или иные цветовые массы гармонично расположены, и нет ничего лишнего. В то время как в современной живописи идет разговор об обратном: композиция разваливается или не вписывается в холст, все классические правила не работают или работают, но иначе. В этом смысле еще интересен Люк Тюйманс — он пишет блеклыми красками. «Октябристы», то есть критики журнала October, интерпретируют его изображения как меланхолические остатки воспоминаний, образы из сна, но не сна художника, а метафорического сна цивилизации. Он рисует Нельсона Манделу, Малькольма Икс, каких-то женщин с невообразимыми грудями…
ОД: А что вы думаете про местный контекст?
АО: В Москве вообще нет живописи, нет школы — ее как таковой не сложилось. У нас в 1985—1987 годах возникла группа «Детский сад», в которой были Андрей Ройтер, Николай Филатов и другие — они могли создать какую-то новую школу, но эта группировка распалась. Ройтер эмигрировал в Голландию, Филатов — в Америку. Все они стали испытывать чрезвычайное давление концептуализма. Я не помню, чтобы после этого были серьезные попытки заниматься живописью. Вика Бегальская — по большому счету украинка, и если мы посмотрим на ее живопись, то это украинская школа живописи. Есть еще Тимофей Караффа-Корбут: я пока не понимаю, что он делает, но его примитивистские зоопарковые картины мне кажутся интересными, они создают странный эффект ненужности, неуместности.
Выставка «Живопись расширения» — это и есть попытка процесс подтолкнуть, вернуть стремление к медиуму живописи. Такие интересные вещи, как работы Караффа-Корбута, повисают в воздухе именно потому, что здесь нет плотного живописного контекста. Условно говоря, это такая белая ворона. В каком-то смысле вся наша выставка — и есть некое собрание белых ворон. Может быть, благодаря таким выставкам, возникнет такое целое направление «белые вороны». Осенью этого года мы планируем сделать выставку в пространстве ЦСИ «Винзавод» с художниками из мастерской на улице Буракова — это Давид Тер-Оганьян, Алиса Йоффе, Света Шуваева, Саша Галкина и другие. К этой выставке я хочу сделать каталог, в котором помимо живописи будет поэзия. Это продиктовано тем, что в этом коммьюнити у ребят большой драйв, всякие рэп-команды и прочее, что я считаю, очень хорошо, потому что одно поддерживает другое. Главным на Буракова является их драйв, там почти нет формалистических изысков. В то время как у их младших коллег из института «База» наоборот — чрезвычайно большое количество формализма и меньше драйв. Одни драйвовые без формализма, другие формалистичные без драйва — может быть, потом они как-то объединятся, а может, и нет.
ОД: Целый ряд современных медиа вышли из живописи. Что в ней сейчас может быть привлекательным для художника, чем она потенциально интереснее других медиа?
АО: Это тоже довольно непростой вопрос — «почему живопись?» Она всегда была привлекательна: я не живописец, но испытываю белую зависть к тем, кто этим занимается. Я думаю, что в живописи есть один аспект, который не совсем осознается художниками, он есть и в России, и на западе. Художники, заигрывая последние 20-30 лет (начиная с эпохи постмодернизма) с различными смежными областями, междисциплинарностью, межжанровостью, потеряли два важных этических аспекта искусства — это его Самостоятельность и Достоинство. Это состояние сейчас хорошо иллюстрирует ситуация на Украине. Когда произошли события на Майдане, Юрий Лейдерман сказал, что возникла украинская нация. Она возникла в тот момент, когда люди осознали свое достоинство. Мне кажется, что художникам тоже необходимо понять и осознать, что такое наше достоинство и наша самостоятельность, в том числе, и вне институций. Против последних я ничего не имею, но если мы будем на них уповать как на патерналистскую систему, которая должна нас куда-то вести, то ничего путного не выйдет. Искусство начинается с достоинства и самостоятельности художника, с его личного высказывания, которое звучит: «Я есть такой какой есть».
За последние пару недель, как мне представляется, в истории нашей страны произошло такое же серьезное изменение, как в 1991 году. К власти пришел пока не фашистский, но квазе-фашистский режим. Я наблюдал то, что происходит на телевидении — при советской власти я не видел такого шовинизма и бреда. Когда состоялся референдум, на одном из центральных каналов показывали политическое ток-шоу в прямом эфире, в котором участвовали довольно приятные молодые, по-европейски выглядящие люди. В конце программы, когда были объявлены предварительные итоги референдума в Крыму, все люди в студии вдруг встают и начинают петь гимн России, причем показывается это действо с первой до последней минуты, периодически совершаются «наезды» камеры на лица этих «менеджеров», чтобы было понятно, что они знают слова. Другими словами, мы теперь живем в другом государстве, и не ясно, каким оно будет. Все те, кто выступал за мир, теперь открыто считаются пятой колонной и врагами народа. Конечно, у Путина нет такого механизма, как у Гитлера, ведь у того была жуткая человеконенавистническая партия, но мы пребываем, наверное, в режиме Салазара или Франко — где-то там. Так как мы сейчас присутствуем при кардинальном историческом событии, и оно не радует, то в новых условиях как раз достоинство и самостоятельность будут самым главным. Без них в этом режиме будет невозможно выжить. И живопись в этом смысле обладает бОльшим потенциалом автономии, чем другие медиа.
ОД: В то же время мы видим невообразимые холсты с Путиным в духе соцреализма, да и картина — любимый медиум и камень преткновения для консервативной части населения этой страны, которая как раз ничего не понимает, да и не хочет понимать в современном искусстве. Как быть с этим?
АО: Конечно, это не просто, но живопись сама по себе имеет действительно большой ресурс автономии по многим причинам. Одна из них — это очень большой риторический ресурс личного мнения, ведь то, что сделано на холсте, можешь сделать только ты и никто другой, это более персональное высказывание. Этого даже меньше в скульптуре, где более распространены цеховые методы построения работы. В живописи такой «цех» — это редкость, да и чтобы его создать, самому художнику нужно долго всех учить. Сама по себе картина может быть и в высшей степени реакционной, но современные художники должны попытаться выстроить заново то, что должно быть разрешено, что может быть на холсте. Наша выставка – ответ на часть этих вопросов.
В современных условиях говорить о реинкарнации какого-либо вида реализма не приходится, потому что он будет абсолютно конгруэнтен беспределу, что сейчас происходит – реализм как риторическая фигура соответствует этому безумному пению гимна хором на телевизионном ток-шоу в течение трех минут.
ОД: Вернусь к выставке — тут и расширение в стрит-арт, и в перформанс, и многое другое. До какой степени, на ваш взгляд, живопись может расширяться в разных направлениях, при этом оставаясь живописью?
АО: Я бы сказал, что в этом смысле я экстремист: я считаю, что живопись должна расшириться до такой степени, чтобы вместо этих дураков на экране телевизора выступали художники и обсуждали принципы расширения живописи. Вообще я считаю, что искусство — это альтетративный политический проект. Он политический не в смысле того, что художники пытаются ответить на те вопросы, на которые отвечают политики, а в том, что он вытесняет из общественного поля взаимную ненависть, которую эти политики обрушивают на общество, и может задать другую повестку дня вообще. Большая проблема в том, что мы здесь, в нашей стране, находимся в маргинальном положении — у нас примерно ситуация Европы в 1959 году. До возникновения Центра Помпиду и всей арт-системы искусство в Европе тоже жило в малых кругах. Такое состояние во многом неприятно, но в нем есть и позитивный момент, а именно — общественная невостребованность, она дает много времени на размышление. Ведь общественная востребованность — это когда куча не очень, мягко говоря, умных людей задают тебе вопросы, на которые ты должен отвечать. Считается, что как раз в то время в западной культуре были сделаны важные художественные открытия, а потом, с 1970-х годов, начались проблемы, а с 1990-х — вовсе гиперпродажи и рыночные мыльные пузыри. Возможно, что платой за невостребованность у нас сейчас будет то, что кто-то сможет здесь что-то серьезное сделать.
ОД: Еще в первом номере журнала «База» вы писали, что творчество должно деконтекстуализироваться, избавляться от контекстов социальных, политических, коммерческих и проч. Получается, пока вы тем убеждениям не изменяете?
АО: Я ничего не имею против гражданской позиции и ее выражения, сам готов помогать — начиная со своего присутствия на митинге, заканчивая идеями. Но это — наша гражданская позиция, и она косвенно имеет отношение к искусству. Искусство должно иметь свое достоинство и быть самостоятельным. Художник может иметь гражданскую позицию, входить в партию, что-то для нее делать. Но я противник того, чтобы подобного типа деятельность выставлять в качестве единственного художественного высказывания. Если вы называете подобную гражданскую деятельность художественным высказыванием, то вы не честны. Ведь здесь разговор идет о принципиально человеческих вещах, а когда они — позиции, ценности — начинают эстетизироваться в качестве автономных произведений искусства, то здесь налицо очевидная спекуляция. Ведь в конечном итоге произведения искусства являются объектами купли-продажи, и становится непонятно, что покупается — искусство или ваши ценности? Эта претензия мне не приходила в голову раньше, ее высказал очень точно Валерий Подорога на одном из последних круглых столов на «Винзаводе». Он сказал, что не может о Pussy Riot ничего сказать как о художественном событии, потому что участницы группы сидели в тюрьме. Само по себе попадание человека в тюрьму накладывает на это событие такой этический груз, что высказываться о нем как об эстетическом феномене чрезвычайно сложно, если вообще возможно. И действительно: если ты скажешь, что Pussy Riot — это плохо, то усугубишь их положение, что хорошо — значит, ты им помогаешь из политических соображений. Там, где вступило в дело насилие, искусство мгновенно испаряется, потому что насилие — с чьей бы стороны оно ни было проявлено — уничтожает дистанцию между зрителем и артефактом. Искусство должно избегать подобных эксцессов.
ОД: То же можно сейчас сказать об уличных перформансах?
АО: Это политика, и она должна строиться по принципам эффективности политического действия — необратимость, массовость, общедоступность и т. п. «Продавать» эти акции — если понимать это слово в широком смысле — не очень этично. И опять же в таком действии теряется Самостоятельность и Достоинство художника.
ОД: В рамках Бергенской ассамблеи в прошлом году был показан фильм Кэти Чухров Love Machines, в котором она намеренно столкнула две противоположные точки координат — дистанцированное восприятие, к которому призывает искусство, и вовлеченность, сопереживание, к котором апеллирует чаще всего театр. В то же время Виктория Бегальская как-то сказала, что живопись — это проекция эмоционального состояния художника. Что для вас значат категории эмоционального в искусстве в разных возможных аспектах?
АО: У меня, безусловно, возникают эмоции, даже мурашки по телу от восприятия того или иного искусства. Это связано во многом с непосредственным переживанием момента здесь и сейчас. Так как я не живописец, мне сложно судить, какую роль могут играть эмоции у живописцев. Дмитрий Гутов иногда говорит, что он бросается на холст с кисточкой и начинает его рвать на куски под музыку Шостаковича. Для меня же процесс работы — вещь совсем не эмоциональная, я не бросаюсь на кусок глины, если леплю скульптуру. Эмоция присутствует в придумывании идеи, возникновении образов, но сам процесс — в нем нет места эмоциям, они только мешают.
jr-mm-30Платон Петров "Персонификация", Музей Москвы, Москва, 2014
 jr-mm-31
jr-mm-31 Экспозиция выставки "Живопись расширения" в Музее Москвы, март 2014 // Фото: Ольга Данилкина
 jr-mm-32
jr-mm-32 Елена Ковылина "Мир", Музей Москвы, Москва, 2014
 jr-mm-33
jr-mm-33  jr-mm-34
jr-mm-34 Сергей Буравченко "Без названия", Музей Москвы, Москва, 2014
 jr-mm-35
jr-mm-35 
Если же говорить об аспекте выразительности, воздействия на зрителя — это тоже очень сложная тема. Эта проблематика возникла как раз в связи с театром и кино — яркий пример тому это голливудское кино, которое спекулирует эмоциями зрителя. Современные технические средства достигли такой степени тотальности, что сложно от этой манипуляции освободиться — люди могут плакать, вставать и петь гимн, источать ненависть и т. д. Я считаю, что это регрессивный и реакционный метод. В этом смысле гимн на ток-шоу — вещь того же разряда, это манипулятивное лживое объединение людей ради решения посторонних корыстных интересов. Подобного типа реакции надо критиковать, вскрывать, не создавать им режим благоприятствования.
Но в то же время, если мы не найдем иную форму эмоционального взаимодействия со зрителем, а останемся исключительно на платформе демифологизации и критики, чем занимаются многие современные художники, то мы проиграем. Нужно искать иные формы выразительности, в том числе и эмоционального воздействия на зрителя, которые не диффузировали с теми, что применяет сейчас власть, но и давали бы определенный эмоциональный контакт. Я в этом смысле являюсь сторонником высказывание Делеза и Гваттари: «Революционная машина — ничто, если она не смогла подчинить себе машину желаний». Если ваше высказывание не желанно, в нем нет эмансипирующего элемента, в том числе эмоционального, то оно всегда будет проигрывать «гимну». В этом стремлении что-то иное противопоставить и располагается искусство XX века — художники пытались (и иногда им это удавалось) найти совсем другие способы выражения, не конгруэнтные власти. Во многом благодаря их нахождению и возникло современное западное общество, более-менее толерантное. Не надо о нем говорить как о рае, но это более-менее технически и эмоционально развитое общество. Мы должны прийти к новой выразительности, предложить что-то другое. Выразительность тесно связана с эстетическими категориями. В этом смысле я считаю историческую абстракцию одной из самых убедительных форм нахождения этой выразительности. Ее до сих пор невозможно использовать в целях «нагнетания напряженности». Но для настоящего момента, конечно, нужно искать новые формы. И это не проблема новизны самой по себе, это способ сопротивления искусства ситуации массовой зараженности общества националистической истерией, что мы можем наблюдать сейчас в связи с событиями в Украине.
aroundart.ru
«Желающие стать художниками абсолютно ничего не знают об искусстве» — T&P

В Москве открылся институт «База» — образовательный проект для художников и искусствоведов, исследовательская экспериментальная площадка, где будут готовить профессионалов в области арт-индустрии. Среди преподавателей сплошные авторитеты: Олег Кулик будет проводить короткие спецкурсы и мастер-классы, а Олег Мавроматти — читать по скайпу историю и теорию перформанса. Отвечает за все это ректор и создатель Анатолий Осмоловский, который рассказал «Теориям и практикам», чему и как будут учить студентов первого набора.
— Почему успешный художник решил стать ректором нового образовательного проекта?
— В некотором смысле это попытка систематизировать собственные усилия. Я постоянно читаю лекции в разных местах, и там бывает совершенно разная аудитория, часто приходится повторяться. А повтор приводит к застою мысли. Поэтому я решил все собрать в одном месте и как-то оформить. Преподавание я практиковал и раньше, у меня были ученики 90-х годов — группа «Радек». Было несколько учеников на моем годичном курсе, который лет 7 тому назад я читал на «Проекте Фабрика», оттуда вышло несколько художников.
Вообще, подобная деятельность довольно взаимовыгодное предприятие. Не только я передаю знания слушателям, но и слушатели мобилизуют меня, заставляют быть в тонусе. Потому что я несу ответственность перед аудиторией, халтуру здесь гнать невозможно. Конечно, это не значит, что без преподавания я буду в плохой форме. Но, при условии что я и так довольно много делаю, издаю журнал, работаю над своими проектами, у меня еще остается время. Поэтому я валяюсь на диване и читаю книжки.
— Вам не кажется, что в сфере современного искусства в России сейчас наблюдается определенная стагнация?
— Безусловно, стагнация присутствует — но по объективным причинам. У нас ведь очень слабая инфраструктура в обществе: практически нет музеев современного искусства, нет нормальной разветвленной системы галерей. На волне нефтяного бума до 2008 года появилась целая плеяда культурных институций. Некоторые из них уже закрылись, какие-то до сих пор работают, но в любом случае — у нас этого очень мало. В Москве, которая является столицей огромной страны, либералы от искусства до сих пор не построили серьезного музея современного искусства. В этом смысле мы, если сравнивать с западным обществом, находимся где-то году в 1960-м.
Кто-то из большевиков в свое время говорил, что Россия отстает от Запада на 50 лет. Отнимем от нашего времени эти полвека, получим 1963 год. А что в это время было на Западе? Это было время недовольства, оставалось несколько лет до молодежной революции 68 года. Поэтому все наши последние события на Болотной, на Сахарова, это все предвестники молодежного негодования, которое у нас здесь постепенно настаивается. 4 марта, понятно, никаких особенно изменений не будет. Но внутренний конфликт зреет, потому что современная культура в России практически не имеет выходов на общественное мнение. Ее до сих пор не пускают. Причем, не потому что есть какое-то цензурирование, не пускают просто в силу другой культурной парадигмы.

Я имею в виду наши масс-медиа — даже по якобы интеллектуальным программам это хорошо видно. Возьмем, например, «Школу злословия». Можно заметить, что в эту программу за все время ее существования был приглашен один или два художника. Конечно, я не постоянно смотрю передачу, но видно, что ведущие в высшей степени негативно относятся к современному искусству — и соответственно этот информационный поток находится вне поля их зрения, восприятия и понимания. Поэтому современная культура находится в гетто, и конфликт, который существует в политическом пространстве, в конечном итоге связан с этой ситуацией. Хотя большинство людей, которые выходят на ту же Болотную, этого, быть может, и не осознают. Эти люди слушают какую-то музыку, что-то читают, что-то делают, при этом им некомфортно жить. Хотя, как я понимаю, деньги они зарабатывают нормальные, приемлемые для жизни. Но ощущение дискомфорта постоянно присутствует, и фигура Путина выглядит сильно устаревшей. Впрочем, Путин, надо отметить, бодрится, и Медведев тоже. Но все это выглядит наигранно. Как-то мы от культуры в политику ушли — но это все взаимосвязано, конечно.
— Каким вы видите своего идеального студента?
— Мой идеал студента, в данном случае молодого художника — это хирург, с холодным разумом и железной волей. Ведь кто такой хирург? Это человек, от которого зависят жизни, у него должно быть непаническое мышление, четкое понимание, что можно и нужно делать, его ничто не должно отвлекать. Так и современный художник не должен вестись на какие-то эмоциональные разводки, которые общество постоянно подсовывает. В этом смысле современный художник — это такой анти-Жириновский. Это не значит, что он должен быть неживым, при необходимости он может и в морду дать. Но он должен четко отдавать себе отчет в том, что делает.
— Как будет построен образовательный процесс? Вы готовы давать базовые знания или хотите, чтобы люди приходили подготовленными? Как, кстати, первый набор?
Осмоловский советует читать: [«Эстетическая теория» Теодора Адорно](http://www.labirint.ru/books/70162/)
[«Эстетическая теория» Теодора Адорно](http://www.labirint.ru/books/70162/)— Судя по 60 заявкам, которые пришли на запланированные 20 мест в группе, большинство желающих абсолютно ничего не знают, у них нет необходимых базовых знаний. Хотя предполагалось, что если речь идет об искусствоведческом направлении, то люди должны знать историю искусства хотя бы до XX века, я не смогу восполнить этот пробел. Это необъятное поле, им должны заниматься профильные институты, которые в этом вполне разбираются. Моя задача — дать знания о том, что происходило во второй половине XX века. Понятно, что и это уже довольно протяженный промежуток времени, там уже есть состоявшиеся фигуры. Фигуры, с которыми понятно, почему они существуют в истории искусства. Но в то же самое время это еще неостывшая история. Она очень сильно связана с какими-то актуальными на сегодняшний день процессами. И я хочу показать на примере второй половины XX века, что художественные направления — это не волюнтаристские настроения каких-то безумцев, которые что-то высасывают из пальца.
В массовом сознании живет стереотип, что современный художник в основном занимается эпатажем. Многие, узнав, сколько стоит современное искусство на Западе, думают, что художники — это еще и шарлатаны, которые ворочают капиталами. И что есть какой-то заговор специалистов. А я хочу показать, что в художественных направлениях, которые существовали последние 50 лет, есть вполне конкретная логика, что это развитие определенных мыслей, парадигм.
— И снова мы приходим к необходимости базовых знаний по истории искусств, а далеко не все ваши студенты владеют ими. Как вы будете учить их?
— Заявок довольно много, я выбираю лучших. Естественно, смотрю, какие учебные заведения люди закончили, какие у них компетенции в той или иной области. С другой стороны, я решил сделать вводную трехчасовую лекцию, где я сжато расскажу об искусстве первой половины XX века, чтобы показать основные тенденции и объяснить предпосылки, которые дали толчок всему остальному. Расскажу, почему современное искусство возникло с картины Эдуара Мане «Олимпия». И на примерах, конечно, очень кратко, покажу самое важное.
Кроме того, у меня большой преподавательский опыт. Когда-то я три года учил людей, которые вообще ничего не понимали в искусстве. И я их научил. Поэтому уверен, что довольно быстро смогу объяснить сегодняшним студентам, что такое современное искусство. Вообще говоря, это вещь довольно простая. Кстати, в массовом сознании существует еще один миф, что современное искусство — это очень сложно, что это только для интеллектуалов. Но по сути это же довольно просто. А сложности — в деталях. Чтобы иметь общее представление, достаточно знать 4-5 идей, которые в этой сфере присутствуют. Понятно, если углубляться в эту область, возникает огромное количество самых разных тонкостей. Эти тонкости мы в том числе будем изучать на этом курсе.

Эдуард Мане «Олимпия»
— Почему нельзя было интегрироваться в какой-то уже существующий образовательный проект? Зачем создавать институт с нуля?
— Во-первых, у меня был подобный опыт преподавания в МГУ. Там я читал циклы лекций, правда для философов, а не для историков искусства. Во-вторых, в этих учебных заведениях существуют квалифицированные специалисты, которые и так этим давно занимаются. В-третьих, я чрезвычайно не люблю формальности, все эти бумажки, договорные документы, пропуска. Поэтому я даже не делал попыток интегрироваться куда-то.
С другой стороны, во многих образовательных учреждениях, в том числе государственных, существует совершенно неприемлемая для меня ситуация, когда есть какой-то лектор (или ряд лекторов) и есть ученики, которые могут приходить на занятия, а могут и не приходить. И между ними нет особо никакой взаимосвязи. А я попытаюсь установить с людьми, которые ко мне пришли, какой-то контакт. Попробую ввести их в сегодняшний московский художественный процесс. Постараюсь сделать так, чтобы у нас была жизнь в коллективе, чтобы чувствовался общий созидательный процесс.
— Студенты будут у вас подмастерьями?
— Ну, наверное, так нельзя сказать. Подмастерья — это если бы они на меня пахали, а этого не будет. Мне не нужны помощники, точнее, они мне нужны, но они у меня есть. Эти люди решают технические, а не художественные проблемы. Скажем, нужно отшлифовать брусок бронзы. Обучать студентов подобного типа деятельности — это совсем за пределами добра и зла. Поэтому слово «подмастерье» здесь не очень уместно.
Я не учился во ВГИКе, но, кажется, наш учебный процесс скорее будет походить на их модель обучения. Скажем, существуют какие-то воспоминания, когда Ромм общался с молодым Тарковским, Абдрашитовым, были у них какие-то квази-партнерские отношения. Вот в этом направлении хочется развиваться.
— Чем обучение в институте «База» будет отличаться от других образовательных программ для художников и искусствоведов?
— Есть важный момент, который вряд ли в наших учебных заведениях в достаточной мере присутствует — понимание логического развития направлений в искусстве. Надо помнить, что российская художественная общественность в основном дебютировала в 90-е годы, а 90-е годы в мировом культурном процессе — это время развития постмодернизма. Понятно, что сейчас этот термин практически ничем не насыщен, разве что какими-то негативными смыслами. Но вообще у этого типа мышления был очень важный момент — отрицание истории, отрицание концепций. Все строилось на критике марксизма, структурализма. И этот фрагментарный подход очень свойственен российской художественной ситуации, я имею в виду преподавательский состав.

Я намереваюсь против этого выставить новый историзм. Как показывает практика, постмодернизм, в котором мы живем уже 20 лет (хотя правильнее отсчитывать с 70-х годов, но мы тогда жили при советской власти, и это было совсем другое), сейчас находится в глубочайшем кризисе. Кризис этот связан с тем, что отрицание истории, традиций приводит к тому, что в конце концов в художественном процессе главным становится доллар. Если нет логики развития, то любой человек с деньгами может направить эту логику в нужное ему русло, грубо говоря, конечно. Отрицание истории приводит к абсолютному волюнтаризму внутри художественного контекста, к раздуванию мыльных пузырей в искусстве, к огромному количеству спекуляций.
Я не настолько наивен, чтобы думать, будто мой учебный процесс сможет эту ситуацию переломить. Но, во-первых, подобная переориентация в осмыслении художественного процесса не только мне свойственна, но и является основным лейтмотивом в современной западноевропейской культурной жизни. Во-вторых, надо же с чего-то начинать. Особенно в России, где никаких глубоких корней понимания современного искусства нет. Нужно находить и создавать какой-то хребет. Мне кажется, что история развития искусства станет тем самым хребтом, на который можно уже любое мясо нанизывать, как на шампур. Это совершенно не значит, что история представляет из себя какую-то железную тоталитарную логику, нет, конечно. Актуальный процесс осмысления истории, он ведь связан не только с логикой, но и с нашей волей. До определенного предела человек может любую логику исправить.
— При создании «Базы» вы ориентировались на какие-то западные образовательные модели, которые кажутся вам эффективными?
— Честно говоря, я не большой специалист в западных учебных заведениях. Какие-то, конечно, знаю, где-то лекции читал. Но я там не был настолько долго, чтобы понимать, как все устроено. Я был скорее приглашенным гостем. Поэтому у меня нет права высказывать по этому поводу какие-то оценочные мнения.
При разработке концепции института я полностью опирался на собственный опыт. Повторюсь, он у меня довольно большой, я читал лекции, учил людей. Но если смотреть на мировую практику, меня интересуют не западные учебные заведения, типа Академии Карлсруэ или Дюссельдорфской академии, мне интереснее какие-то студии — студия Вито Акончи, Микеланджело Пистолетто. Когда художник набирает в ученики молодых людей, с которыми он взаимодействует.
 **5 других образовательных программ для художников и искусствоведов:** [Арт-менеджмент и галерейный бизнес](http://theoryandpractice.ru/courses/8274-art-menedzhment-i-galereynyy-biznes) [Изобразительное искусство XX–XXI веков](http://theoryandpractice.ru/courses/8199-izobrazitelnoe-iskusstvo-xxxxi-veka) [История искусства первой половины ХХ века](http://theoryandpractice.ru/courses/7442-istoriya-iskusstva-pervoy-poloviny-khkh-veka) [Базовый курс по истории искусства и арт-бизнесу](http://theoryandpractice.ru/courses/6938-bazovyy-kurs-po-istorii-iskusstva-i-art-biznesu) [Философия искусства](http://theoryandpractice.ru/courses/6333-filosofiya-iskusstva)
**5 других образовательных программ для художников и искусствоведов:** [Арт-менеджмент и галерейный бизнес](http://theoryandpractice.ru/courses/8274-art-menedzhment-i-galereynyy-biznes) [Изобразительное искусство XX–XXI веков](http://theoryandpractice.ru/courses/8199-izobrazitelnoe-iskusstvo-xxxxi-veka) [История искусства первой половины ХХ века](http://theoryandpractice.ru/courses/7442-istoriya-iskusstva-pervoy-poloviny-khkh-veka) [Базовый курс по истории искусства и арт-бизнесу](http://theoryandpractice.ru/courses/6938-bazovyy-kurs-po-istorii-iskusstva-i-art-biznesu) [Философия искусства](http://theoryandpractice.ru/courses/6333-filosofiya-iskusstva)— Кто разрабатывал программу обучения и почему она получилась такой, какой получилась?
— В основном программу разрабатывал я сам. Советовался с куратором Константином Бохоровым, он тоже будет преподавать. В образовательном процессе я скорее буду отвечать за изобразительное искусство, за практику. Но обязательно нужен был другой взгляд, чтобы не было монозрения. И это будет взгляд Бохорова, который является практикующим куратором, с одной стороны, а с другой, он один из немногих в России по-настоящему исследовал проблему кураторства.
— Как будет построен образовательный процесс? Что ждать студентам?
Первые три месяца, до лета, будут в основном лекции, семинары, задания по прочтению определенных текстов. Лекции будут сопровождаться специально подобранным визуальным материалом. Первые 1,5 часа лекции будут посвящены истории искусства, а вторые 1,5 часа — какой-либо деятельности, связанной с практикой. Чтобы люди с самого начала могли как-то самоорганизовываться, чтобы начиналась какая-то жизнь. А со второго сезона, с октября, будет больше практических занятий, походов на выставки, объяснений того, как сделать тот или иной проект.
Я считаю, нет ничего более правильного, чем идти в Третьяковку в отдел иконописи. Еще Матисс, когда приезжал в Россию в начале XX века, говорил, показывая на иконы: «Что вы переживаете, что у вас нет художественной традиции, вот же она». Что касается современного искусства, к сожалению, у нас не очень много событий, которые достойны внимания. Ну вот проходит у нас биеннале раз в 2 года, иногда там появляются довольно серьезные художники. Понятно, что и там обычно процентов 60 какого-то актуального дерьма, а процентов 40 — чего-то стоящего.
А вообще каких-то серьезных и успешных выставок современного искусства в России почти не происходит. Как на Западе, например. У нас даже биеннале для общества и для масс-медиа в лучшем случае информационный повод — мол, приходите посмотрите, посмеетесь. И все. И тут мы возвращаемся к тому, с чего начали — современное искусство у нас в стране находится в гетто. Оно не влияет на общество в широком смысле.
** — У вас в анкете для соискателей был вопрос «Что вы ожидаете от Института». Что писали, если не секрет?**
— Две основные надежды у людей. Первая — погрузиться в среду, в актуальное современное искусство. И вторая надежда — если суммировать и обобщить — «хочу понять, почему живопись Джексона Поллока это не мазня».
theoryandpractice.ru
Монологи. Анатолий Осмоловский | Артгид
Текст: Анатолий Осмоловский20.06.2016 7211В цикле «Монологи», подготовленном Сергеем Чебатковым, культурологом, журналистом, автором-ведущим программ о культуре на «Радио России», ключевые участники современного художественного процесса рассказывают, почему и как в 1980–1990-е они решили связать свою судьбу с современным искусством. Третий монолог цикла принадлежит художнику, куратору, основателю института «База» Анатолию Осмоловскому.
 Анатолий Осмоловский читает стихи на теоретическом семинаре «Терроризм и текст». Московский государственный университет, 1989. Courtesy Анатолий Осмоловский / Светлана Баскова
Анатолий Осмоловский читает стихи на теоретическом семинаре «Терроризм и текст». Московский государственный университет, 1989. Courtesy Анатолий Осмоловский / Светлана Баскова
Искусством я заинтересовался примерно в десять лет. Произошло это благодаря поэзии Маяковского, которая произвела на меня очень большое впечатление. Мне захотелось выяснить, что же было в то время помимо Маяковского, он же творил не в безвоздушном пространстве. И я стал покупать книги, которые более подробно освещали русскую культуру начала ХХ века. Так я узнал про Хлебникова, Крученых, футуризм и тому подобное. Я даже купил несколько довольно ценных антикварных книжек того времени: в конце 1970-х — начале 1980-х они стоили относительно недорого. Все это в конечном итоге привело к тому, что я сам начал писать стихи. Подражательные, конечно, но такого довольно авангардистского толка. Потом как-то все это плавно переросло в следующий этап. Я стал покупать советские книги, критикующие западную культуру, и из них уже узнал о существовании дадаизма, сюрреализма и других западных художественных течений.
 Анатолий Осмоловский читает стихи на теоретическом семинаре «Терроризм и текст». Московский государственный университет, 1989. Courtesy Анатолий Осмоловский / Светлана Баскова
Анатолий Осмоловский читает стихи на теоретическом семинаре «Терроризм и текст». Московский государственный университет, 1989. Courtesy Анатолий Осмоловский / Светлана БасковаВ этот момент началась перестройка, и Старый Арбат превратился в площадку, где весь творческий народ начал самореализовываться. Там сразу же появилось множество художников, в том числе и андерграундных. Например, там продавал свои работы Авдей Тер-Оганьян. Однажды, прогуливаясь по Арбату, я увидел людей, которые читали стихи. Я к ним подошел, и мы познакомились. Это, собственно, была первая поэтическая группа, которая читала стихи на Арбате, и я к ним присоединился. О нас даже была публикация в журнале «Юность», что по тем временам было довольно круто. Как раз в это время, то есть летом 1987 года, журнал «Юность» устраивал большой праздник в честь своего очередного юбилея, который отмечался в кинотеатре «Октябрь», и нас пригласили туда читать наши стихи со сцены. Мы там были, конечно, почти маргинальными персонажами по сравнению с Андреем Вознесенским, Робертом Рождественским и другими звездами тех лет. В результате нам удалось познакомиться с Вознесенским и он пригласил нас к себе на дачу, чтобы мы почитали ему свои стихи. У него был тогда большой интерес к тому, что происходило в молодежной литературе. Мы приехали к нему, пообщались. Он был в восторге от моих стихов, хотя сейчас я, конечно, понимаю, что это были, может быть, и талантливые, но все-таки еще юношеские стихи, не очень зрелые. Но Вознесенский стал нас пиарить, начал рассказывать во всех своих интервью о том, какие мы молодые, талантливые и замечательные. Конечно, это было для нас в каком-то смысле авансом.
 Поединок на фестивале «Взрыв новой волны». Центральный дом медика, Москва, октябрь 1990. Courtesy Анатолий Осмоловский / Светлана Баскова
Поединок на фестивале «Взрыв новой волны». Центральный дом медика, Москва, октябрь 1990. Courtesy Анатолий Осмоловский / Светлана БасковаМой дед был генералом НКВД, которого посадили в 1937 году, в разгар репрессий. Отца моего тоже определили по военной линии, он стал военным инженером, но уволился из армии, где ему не давали делать карьеру как сыну репрессированного. Поэтому нрав у него был довольно крутой. Он сказал мне: «Вот ты сейчас занимаешься всякой ерундой. Пойдешь в армию, там тебе мозги-то и вправят». Еще раньше отец мне объявил, что когда мне исполнится 18 лет, денег он мне давать больше не будет и я должен буду сам себя обеспечивать. Поэтому выбора у меня не было, я поступил на вечернее отделение (в 1987 году Осмоловский поступил на факультет металлорежущих станков новых технологий Высшего технического училища ЗИЛа, но обучения не закончил. — Артгид) и пошел работать. Работал я на заводе «Алмаз — Антей», который сейчас делает боевые комплексы С-400. При этом я зарабатывал какие-то совершенно фантастические деньги, потому что это было оборонное предприятие. Я был всего лишь лаборантом, а оклад у меня был 160 рублей, а с премиями часто и до 200 рублей доходило, что по тем временам было очень прилично.
В армию я, конечно, идти не хотел. Все мои друзья говорили, что надо косить. Тогда все косили самыми разными способами — в основном через дурдом. Но я как-то не озаботился этим, и в итоге меня забрали. Но я четко решил, что попытаюсь убежать из армии. Меня распределили в Тульскую воздушно-десантную дивизию, так что я в каком-то смысле десантник. Правда, прослужить мне удалось только три дня. Армия произвела на меня совершенно шокирующее впечатление. Я взял с собой из дома хороший бритвенный прибор и небольшую библиотеку для чтения. На второй день службы я открыл свою тумбочку и обнаружил, что там вообще ничего нет — всё сперли. Я решил действовать. Мне удачно удалось разбить окно в казарме, и я отправился в лазарет, где меня начали припахивать старослужащие — просили оформлять их дембельские альбомы. Ну и я им там такого понарисовал, Высоцкого в сюрреалистическом стиле, с вылезающими глазами, и прочее тому подобное. Они на все это дело посмотрели, и сказали, что мне явно надо ехать в Петелино — тульский дурдом. Кончилось все тем, что один «дедушка» решил заставить меня помыть за себя полы. Я начал отказываться, а когда они стали наседать, то просто подбежал к окну и выбил кулаком стекло. Меня сразу посадили в машину и отвезли-таки в дурдом. Там я пробыл четыре месяца, и это было довольно забавное времяпрепровождение. В коне концов, комиссоваться мне помог Вознесенский. Когда я уходил в армию, он дал мне свой адрес, и я ему написал послание, где обрисовал сложившуюся ситуацию. Он прислал в дурдом письмо, в котором сообщал врачам, что я и на воле уже был сумасшедшим и надо меня из армии убрать подальше. Еще мне повезло в том, что моим лечащим врачом оказался молодой парень, довольно прогрессивный, большой поклонник группы «Звуки Му». А я был знаком с лидером этой группы Петром Мамоновым — перед армией я был ярым фанатом рок-музыки, ходил на разные концерты и в конце концов попал в фан-группу «Звуков», тусовался у них в гримерке, помогал аппаратуру таскать, ну и так далее. Так что мы с моим врачом сошлись на этой почве, тесно общались. Он мне сказал: «Я вот тебе выпишу таблетки, а ты уж как хочешь, можешь пить, можешь не пить — твое дело». Мне официально поставили диагноз «астено-депрессивный синдром» и в итоге комиссовали.
 Слева: Анатолий Осмоловский. Кое-что, время от времени выпадающее из мусорного бака. XL Галерея, Москва, 20–27 ноября 1996. Courtesy XL Галерея. Справа: Анатолий Осмоловский. Приказ по армии искусств. Инсталляция. XL Галерея, Москва,19 ноября — 3 декабря 1997. Courtesy XL Галерея
Слева: Анатолий Осмоловский. Кое-что, время от времени выпадающее из мусорного бака. XL Галерея, Москва, 20–27 ноября 1996. Courtesy XL Галерея. Справа: Анатолий Осмоловский. Приказ по армии искусств. Инсталляция. XL Галерея, Москва,19 ноября — 3 декабря 1997. Courtesy XL ГалереяВернувшись на гражданку, я продолжил организовывать и проводить поэтические чтения. Делали мы это уже не на Арбате, а в различных публичных библиотеках. Нужно сказать, что при советской власти на проведение подобных мероприятий существовала твердая тарифная ставка. Если ты профессиональный поэт, член Союза писателей, то за выступление получаешь одни деньги, если ты просто на добровольных началах, то другие. Мы получали по самому низкому тарифу — 25 рублей за выступление. При этом было абсолютно безразлично, сколько слушателей придет на твое поэтическое выступление, хоть один человек, все равно, твои деньги тебе заплатят. Поэтому если ты организовывал три выступления в месяц, у тебя уже были в кармане деньги, на которые как-то можно было прожить.
 Хеппенинг «Дословный показ мод» на фестивале «Взрыв новой волны». Центральный дом медика, Москва, октябрь 1990. Courtesy Анатолий Осмоловский
Хеппенинг «Дословный показ мод» на фестивале «Взрыв новой волны». Центральный дом медика, Москва, октябрь 1990. Courtesy Анатолий ОсмоловскийВ конце 1990 года мы с друзьями организовали в Центральном доме медика большой фестиваль французского кинематографа, который мы назвали «Взрыв новой волны». Во французском посольстве мы взяли фильмы Годара, Шаброля и других режиссеров французской «новой волны» и устроили двухнедельную ретроспективу. Одновременно с показом кино мы делали перформансы. К тому моменту мы уже прочитали достаточное количество книжек и знали, что такое перформанс и с чем его едят. Самый, пожалуй, мощный из них у нас получился в день закрытия фестиваля. Мы показывали фильм Луи Маля «Зази в метро». Там в конце фильма, на последних минутах, идет драка в ресторане — в таком чаплинском духе, с киданием друг в друга тортами, с присутствием между дерущимися человека в костюме белого медведя, ну и так далее. И мы этот эпизод из фильма решили овеществить. Когда люди начали после просмотра выходить из зала, мы стали кидаться тортами, выпустили живого бурого медведя. Белого достать было очень сложно, к тому же нам сказали, что они очень агрессивные. А наш мишка бегал себе по залу, все его гладили, трепали за шкуру. Он довольно урчал. Народ был в полном восторге. Вообще люди тогда были какие-то совсем не пуганные, наверное, потому что само время было такое неопределенное, веселое. Сейчас бы я уже десять раз подумал, прежде чем живого медведя в зал выпустить. Тогда за две недели мы заработали 12 000 рублей. Огромные деньги. Правда, большую часть из них мы потратили на ремонт зала, нам пришлось менять обивку кресел и циклевать пол. Но все равно у нас оставалось еще около 5000 рублей, на которые можно было тогда жить неопределенно долго.
 Движение «Э.Т.И.». Акция «Э.Т.И.-текст». Москва, Красная площадь, 18 апреля 1991. Фото: корреспондент МК. Courtesy Анатолий Осмоловский / Светлана Баскова
Движение «Э.Т.И.». Акция «Э.Т.И.-текст». Москва, Красная площадь, 18 апреля 1991. Фото: корреспондент МК. Courtesy Анатолий Осмоловский / Светлана БасковаЭто был ноябрь 1990 года, а уже 1 января 1991-го произошел первый отпуск цен и все объекты культуры перевели на хозрасчет. И когда мы в январе пошли в следующие дома культуры, нам сказали: «Делайте, что хотите, но только со стопроцентной предоплатой». Мы так потыкались в несколько мест, но с тем же успехом. Тогда мы поняли, что вся наша прежняя деятельность накрылась медным тазом. И вот с этого момента начались наши уличные перформансы. Одним из самых первых был перформанс «Хуй на Красной площади» (в академической литературе акция известна под названием «Э.Т.И.-текст». — Артгид). Мы вовсе не были против конкретно Горбачева или кого-то там еще, это был наш протест против того, что мы уже не можем делать того, что раньше делали в разных ДК. Если в ДК у тебя требуют стопроцентную предоплату, то ты бесплатно выходишь на улицу. Мы эту нашу акцию приурочили к выходу «Закона о нравственности» (закон вступил в силу 15 апреля 1991 года. — Артгид), который запрещал ругаться матом в общественных местах и все такое прочее.
Задержали нас не сразу. Когда милиция подошла к нам на Красной площади, мы им сказали, что выкладываем геометрические фигуры. Они просто записали адреса и отпустили нас. А вечером ребята принесли мне фотографию с площади и спросили: «Ну что, мы будем публиковать или не будем?» Ну я решил: назвался груздем — полезай в кузов, — и дал согласие на публикацию. «Московский комсомолец» все это и опубликовал. На следующий день раздался звонок в дверь, и меня повязали прямо дома. Дальше был довольно жесткий допрос. Они пытались инкриминировать мне попытку сказать, что это, мол, «Ленин — хуй». На что я по рекомендации Вознесенского отвечал, что если бы я хотел это сказать, то я бы после слова «Ленин» тире поставил. А так как тире не было…
Вот так все, собственно, и начиналось.
artguide.com