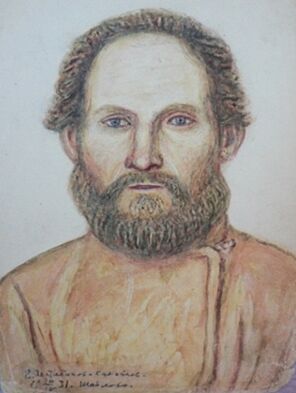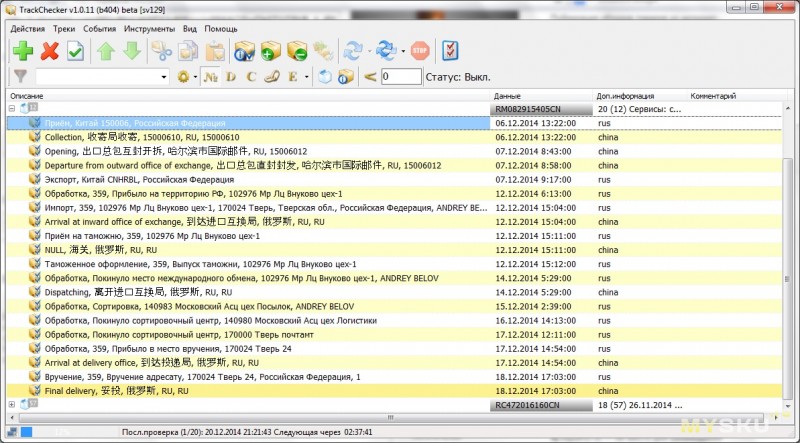ЕФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ ЧЕСТНЯКОВ. Картины честнякова ефима
Честняков Ефим Васильевич – Самобытный русский художник из деревни Шаблово, что под Кологривом
I. ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫМ.М.Орехова (Кострома)
В 1959 году 30 августа распоряжением Совета Министров Российской Федерации был учреждён в городе Костроме историко-архитектурный музей-заповедник на базе архитектурного ансамбля бывшего Ипатьевского монастыря и областного краеведческого музея.
В структуру музея-заповедника был введён музей деревянного зодчества под открытым небом, началом которого послужили спасённые от затопления в Костромской низменности оригинальные церковь Преображения из села Спас-Вёжи и четыре бани, тоже на сваях, перевезённые из деревни Жарки в 1955–1956 гг.
Сразу был поставлен вопрос о выявлении других памятников деревянного зодчества на территории области и доставки их на территорию, прилегающую к музею-заповеднику, для сохранения. На 1959 год из бюджета музею-заповеднику для этой цели были отпущены дополнительные средства.
В штате музея не было специалистов по архитектуре, искусству или этнографии. Поэтому архитектор научно-реставрационных мастерских Иосиф Шефтелевич Шевелёв проявил инициативу возглавить совместную с музеем экспедицию по обследованию районов области. Тем более, что у него уже был опыт по перевозке церкви Преображения и бань.
В 1959 году экспедиция обследовала северо-западные районы: Солигаличский и Судайский, в 1960 г. — Павинский, Пыщугский и Кологривский. В Кологривском районе в деревне Шаблове внимание экспедиции привлёк необычайный дом, похожий на двухэтажный овин. Когда Шевелёв стал спрашивать жителей (как он мне рассказывал), кто в этом доме живёт, ему отвечали: «Старик святой». Всё это очень заинтересовало Иосифа Шефтелевича, и он упросил хозяина этого жилища впустить его и познакомиться.
По возвращении экспедиции Шевелёв рассказал мне об этой встрече подробно. Обитатель дома-овина оказался интересным человеком: художником, скульптором и, главное, учеником знаменитого художника Репина. Рассказал и о тех условиях, в которых жил Ефим Васильевич. Меня это очень тронуло. Шевелёв тоже был заинтересован подробнее изучить этого человека. Мне он сказал, что хорошо было бы послать туда художника.
В штате музея был художник-оформитель, но он не мог определить ценность и самобытность картин и скульптур, которые видел Шевелёв. Да Шевелёв ещё сказал: «Я не художник и не искусствовед, но думаю, что Честняков очень оригинальная личность». Мне пришлось просить художественный фонд послать кого-то из художников, искусствоведов у них не было. Решили послать директора картинной галереи Анатолия Ивановича Яблокова. Он в то время считался самым знающим и даже выдающимся художником.
У галереи тоже средств не было, так как был уже 3-й квартал. Я обратилась к начальнику управления культуры Михаилу Павловичу Смирнову за разрешением оплатить командировку Яблокова за счёт музея. Он разрешил. Яблоков возвратился с грустным определением, что Честняков не художник, а так — просто любитель, изображает деревенских ребятишек и в своих картинах, и в скульптурах из глины. На картинах изображает в основном деревенские гуляния и бытовые сцены.
От Шевелёва я знала, что Честняков живёт очень бедно, что в деревне одни его считают святым, другие чудаком, но все жалеют и помогают ему жить, кто чем может. По рассказам Шевелёва и то, что Ефим Васильевич — ученик Репина, я считала себя обязанной помочь этому человеку, хотя бы материально. Я звонила в Кологривский райсобес о назначении Честнякову пенсии. Чиновники отвечали, что у него нет рабочего стажа. Тогда я поехала в Кологрив, пошла в райком и райисполком и доказала, что нельзя оставлять человека жить на подаянии. После долгих дебатов дали пенсию 8 рублей. Сейчас смешной кажется эта пенсия, а в то время на неё можно было купить: 2 кг сахара (1 р. 80 коп.), на 3 р. хлеба на месяц (по 13–18 коп.), 2 бутылки масла растительного (2 р.), а на остальные рубль двадцать — соли, мыла, спичек и др. мелочи. Я сейчас не помню, как такую пенсию воспринял Ефим Васильевич.
Когда в году 61 или 62 я ездила в Кологривский музей с проверкой работы, то встретилась с племянницей Честнякова (она приходила в библиотеку музея) или с другой родственницей, жившей в Кологриве. Я её очень просила, чтобы она сберегла всё, что осталось от Ефима Васильевича. В то время его уже не было.
Не помню, в каком году сотрудники музея ИЗО делали отчёт о проведённой ими экспедиции. Директор музея Виктор Ингатьев рассказал, что они открыли очень оригинального художника и скульптора. У меня невольно вырвалась реплика: «Что, второй раз открыли Честнякова? Ведь его открыл Шевелёв в 1960 году, а Анатолий Иванович Яблоков закрыл». Не помню, что ответил Игнатьев, а Яблоков встал и покинул зал.
***
В июле 1983 года жизнь меня свела с человеком, который с детства знал Честнякова. К моей соседке приехала сестра с мужем, Николаем Васильевичем Румянцевым, из г. Архангельска. 5 июля я разговорилась с Николаем Васильевичем — 60-летним мастером-высотником. Он оказался родом из Кологривского района, из деревни Бурдово, что в 1 км от деревни Шаблово. Спросила о Ефиме Васильевиче Честнякове. Николай Васильевич рассказал следующее: Ефима Васильевича помнит с детства. Ефим Васильевич часто ездил по деревням с тележкой на 2-х колёсах. Она состояла из ящика, разгороженного на две части и укреплённого на колёсах с двумя ручками, скреплёнными с колёсами и ящиком. Вёз коляску чаще всего впереди себя (как тачку), а иногда и сзади. В одной части тележки были глиняные детские свистульки в виде птиц или зверюшек и куклы, раскрашенные разными красками. В другой части тележки был бидон под молоко и другие продукты.
Ходил Е.В. всегда в белой рубашке и брюках, сшитых из холста. Белый же, вроде панамы, головной убор тоже из холста. Зимой ходил в короткой куртке, на шее шарф, на голове башлык. Остальную одежду не помнит.
Всегда ходил с маленькой гармошкой и свистел в свистульки. Свистульки были похожи на птиц, зверей. Были скульптуры мужчин, женщин, детей, домашних животных. Собирались около него дети и взрослые. Особенно он старался развлечь людей, организовывая различные народные гуляния с танцами и песнями. Свистульки он раздавал детям, а родители платили ему, кто чем мог и сколько мог — в основном молоком, яйцами, хлебом и другими продуктами.
В Троицу он ходил из одной деревни в другую. «Мы, мальчишки, всегда сопровождали его. В какое-то время он всё это прекратил — почему, не знаю. Возможно, потому, что к нему часто приезжали с обыском. У Ефима Васильевича была сестра Анна Васильевна, учительница, но её за что-то сослали в Сибирь».
В 1940 г. Николай Васильевич Румянцев стал работать избачём. По деревням тогда часто устраивали избы-читальни, типа клубов. Они же были и библиотеками. В них были разные газеты и книги. «Изба-читальня была в деревне Бурдово, там же был и сельсовет (это в 1 км от деревни Шаблово).
Деревня Глебово была в 3 км от Бурдова, а село Илешево в 7 км. В них были школы, в которых я учился. В Илешево я ходил через Шаблово в школу каждый день, поэтому часто видел Ефима Васильевича. Жил он постоянно в доме, сделанном из овина. Овин был высокий, и окна были вверху и внизу. Дом казался как бы двухэтажным. Когда я стал работать в читальне, то Ефим Васильевич приходил каждый день часов в 10–11. Всегда садился на одну и ту же скамейку у большого стола. Читал все газеты, но недолго — 1–2 часа.
В один из дней я повесил портрет Владимира Ильича Ленина — во весь рост, в кепке и руки в карманах брюк, стоит на брусчатке. Честняков, когда зашёл, не видел портрета, а кончил читать, встал и направился к выходу. Увидев портрет Ленина, Честняков выпрямился, взял под козырёк, постоял несколько секунд и сказал: «Здравствуй, Володя!»
Помню ещё интересный случай. Был сильный ливень, Честняков ехал со своей коляской, вода шла большим валом к реке. Честняков снял с себя одежду и бросился в этот вал. Валом его не унесло. Он вышел и оделся. Зачем он это делал, не знаю, не могу сказать. После этого случая или ещё почему в деревнях его стали звать святым».
В 1950 г. Николай Васильевич Румянцев приехал сделать ревизию на почте в селе Илешево и снова увидел Честнякова — он пришёл отправить перевод сестре в Сибирь. Когда Честняков сделал перевод, Румянцев спросил: «Ефим Васильевич, правда, что вы учились с Владимиром Ильичом Лениным?» Честняков ответил: «Да, я с Володей учился в одной гимназии». Больше ничего не сказал и ушёл.
Н.В. рассказывал, что Ефим Васильевич дружил с председателем колхоза Яковом Ивановичем Беляевым. В 1982 г. Беляев был ещё жив, жил в Шаблове.
Ещё один случай рассказал Румянцев: «Инструктор райкома партии и бухгалтер леспромхоза после совещания остались ночевать у Беляева. Инструктор попросил Беляева сводить его к Честнякову, так как слышал, что этот человек с причудами, хотелось с ним поболтать. Беляев рассказывал, что когда они пришли к Ефиму Васильевичу, то он что-то размешивал в чайной чашке ложкой. Беляев и инструктор сели на лавку, Честняков подошёл к ним и отдал инструктору чашку с ложкой, сказав: «Я уже поболтал, а теперь Вы поболтайте, сколько хотите». Разговаривать с ними не стал». Вообще, в деревне рассказывают много чудачеств, но Румянцев рассказал только то, что сам видел и знал.
Октябрь 1995 г.
То, о чём пишет Мария Михайловна Орехова, похоже на то, что было. Но всё же, будь на то моя воля, я бы осторожно подходил к воспоминаниям ветеранов, которым за 70 (и я к ним принадлежу), — тем более к воспоминаниям о далёком прошлом.
У меня, например, память избирательная. Всё, что касается моих научных интересов, я неплохо держу в памяти, но многое другое — не помню.
И всё же — это можно установить по документам реставрационной мастерской — экспедиции 1959 и 1960 гг. (а на самом деле 1958 и 1959 годов) были последними экспедициями реставрационной мастерской, к организации которых тогдашний краеведческий музей, которым руководила М.М. Орехова, отношения не имел; в состав экспедиции, набранный мной, входили в 1958 г. : я, Муравьёв Владимир (художник) и Наталья Державец, тогда студентка архитектурного вуза.
В 1960 г. в экспедиции были: я, Муравьёв, Меркушина Нина (реставрационная мастерская), покойный Юра Кочеганов (художник) и студентка 2го курса тогдашнего текстильного института Аня, фамилию которой я, к сожалению, не могу припомнить. Она-то и была главным лицом в нашем знакомстве с Честняковым Ефимом Васильевичем. Таким образом, музейных работников в этих 2х первых экспедициях не было.
Было лето — необычно жаркое, на солнце — более 40°; наша пятёрка двигалась на восток, к Кологриву; близился вечер; мы гнали, как могли быстро, на велосипедах, чтобы наверстать упущенное накануне время. В пути мы были более 3х недель. Спортивные трикотажные рубашки — когда-то синие — выгорели на спинах и плечах, трикотажные или сатиновые брюки, растянутые в коленях, кепочки — всё это придавало нам вид не очень патриархальный и пристойный, и две девушки в таких одеждах усугубляли это впечатление. Такова, мне думается, первопричина сугубо отрицательной реакции Честнякова на нас в первые минуты встречи. А было так.
Действительно, удивил овин, с асимметрично, в два яруса расположенными окошечками, с затейливыми наличниками, стиль которых явно чем-то выпадал из традиционно народной формы — чувствовался оригинал, не знающий никаких архитектурных канонов и правил; это притягивало; мы свернули с дороги на огороды, где что-то делали две пожилые женщины, разговорились с ними. От них мы узнали, что дом-овин этот принадлежит учителю, который, приехав когда-то давно из Петербурга, поселился здесь и почитается всеми как одарённый и святостью, и талантом целителя — живущий ради детей и для них художник. Миром поддерживают его хозяйство; но дом уже непрочен, крыша течёт; сам он должен скоро прийти.
Мы решили ждать. Близился вечер. Нам сказали ещё, что, может быть, он и не захочет с нами разговаривать: когда из других деревень приходят его просить о лечении болезней, он, поглядев на просителя, может пригласить, а может и, замахнувшись веником, прогнать прочь.
Я увидел его внезапно, уже в сумерках, в нескольких метрах; невысокий старик, босой, в белых портах и рубашке навыпуск. Подошёл к нему, заговорил. Не помню, не «брысь», но что-то такое же он сказал, и жест его был — уходите.
Мы замялись; и тут он увидел лицо нашей Ани и уже не сводил с него глаз. Он начал движение — вокруг Ани, подняв кисти рук, и наклонял голову, и, вглядываясь, речитативом напевал: рана — рана — рана; рана — рана — рана…
И — позвал нас к себе.
В комнатках, на которые членился овин в 1 этаже, был полумрак, все стены затянуты холстом, покрытым почерневшей живописью, которая в полумраке казалась пространством помещения, наполненным фигурками, и глиняные фигурки людей, расставленные на лавках, казались выступившими из холста, а точнее — из стен, потому что все стыки стен, обитых холстом, и стыки потолка тонули во мраке. И все лица детей и подростков, глядевшие на нас с холстов и в глине, были лицом нашей Ани!!
Теперь Честняков уже не прогонял нас, а усадил на скамью и начал читать напевно свои стихи-колядки, поясняя картины; и то, что он усадил нас, было для нас и блаженством и пыткой. Музыкальный речитатив, физическая усталость и неподвижность заковывали — по крайней мере меня — в глубокую дрёму, с которой трудно было бороться, и я то слышал стихи, то обнаруживал вдруг, что я грежу в полудрёме.
Потом он дал нам расписаться в книге — довольно толстой «амбарной тетради», где до нас расписывались очень и очень многие почётные посетители и где мелькали профессора и ещё какие-то весомые титулы и известные имена — боюсь соврать, быть может, и Корней Чуковский или что-то ему равное по известности в России.
Но нужно было двигаться дальше. Впечатление от встречи с Честняковым было сильным. Поразила его человеческая незаурядность и та духовность, которая в обыденной жизни нам не встречается, но которая чувствуется; его целостность и посвящённость одной идее и одному образу.
В Костроме я делился этим впечатлением со многими и, конечно, с директором музея М.М. Ореховой, хотя сейчас не помню, как это было. Но, сразу по возвращении, я специально пошёл на приём к заместителю председателя облиспокома Марии Софроновне Осипенковой, рассказал ей о Честнякове и просил помочь. Было ли это сделано — не знаю. Этим, собственно, всё и закончилось.
Полагаю, что открытием Честнякова можно назвать только тот большой труд, которым были собраны, осмыслены, отреставрированы и сделаны известными всем нам, всем россиянам, картины Честнякова.
К этому я отношения не имел.
И. Шевелёв30.12.95
kostromka.ru
Ефим Честняков | cosmograph
Искусство, культура, живопись
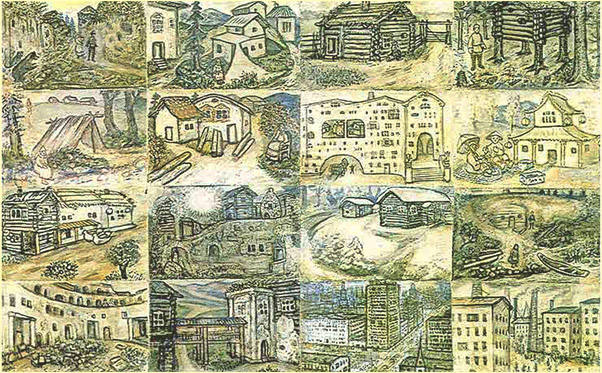
Савелий Ямщиков о Ефиме Честнякове.
Я давно родился на земле 1 2 3
Ефимово «займище»
Детские забавы
Сергей Голушкин
Реставратор, открывая живопись, внедряется в святая святых — творческую лабораторию мастера и прежде других определяет, насколько высок уровень профессиональности художника. Картины Е.В.Честнякова находились, как известно, в неодинаковых условиях. У когото из односельчан художника они висели в красном углу, у других лежали на чердаке — «на понебье», как говорят в Шаблове; а бывало, что их из-за недостатка холстины использовали в иных, чисто утилитарных целях. Сам художник располагал очень ограниченными средствами. Часто ему не хватало холста, и поэтому он писал на картонах, фанере, кусках ткани, не предназначенных и не пригодных для живописи. И тем не менее полотна Честнякова сохранились. Они дошли до нас в тяжелом состоянии, которое, однако, все же позволило восстановить их и вернуть к жизни. Это говорит о том, что художник был настоящим мастером, хорошо знал технику и технологию живописи и в любых условиях считал необходимым соблюдать профессиональные требования. Такая черта свойственна, к сожалению, не всем даже маститым художникам, которые зачастую пренебрегают техническими правилами и обрекают свои творения на скорое разрушение. О высоком профессионализме Честнякова свидетельствует и его серьезное отношение к работе над картиной. Многие современные художники строят композицию прямо на холсте и часто в поисках нужного решения переписывают по нескольку раз одни и те же фрагменты, нанося красочный слой один на другой, что отрицательно сказывается в дальнейшем на сохранности живописи. Честняков же в поисках правильного решения композиции делал множество предварительных эскизов и этюдов и только потом приступил к работе над полотном. Такой принцип характерен для очень требовательных к себе художников. Реставрация произведений Честнякова была не простым делом. И это понятно, если учитывать те условия, в которых они хранились. Почти на всех картинах имелись осыпи грунта и красочного слоя; требовалось их укрепление. На многих отмечались многочисленные утраты авторской живописи, которые приходилось восстанавливать. Все работы были без подрамников. Художник использовал их как декорации к своим театральным представлениям, часто перевозил, хранил подвешенными вертикально. Это послужило причиной деформации холстов и вызвало осыпи. Все полотна были очень загрязнены, покрыты слоем копоти и пыли, въевшихся в красочный слой. Многие картины крестьяне, по-видимому, пытались подновить, покрывая их красками и бронзой. Несколько произведений представляли особую трудность для реставраторов. Так, полотно «Город Всеобщего Благоденствия» было разрезано на пять частей, видимо, уже после смерти художника, когда каждому хотелось что-то иметь на память о нем. Все части находились в разных местах, но оказались в неплохом состоянии. Холст не дал усадки, на нем не было утрат даже по краям разрезов. Трудность состояла в необходимости состыковать все пять частей, как мозаику, и сдублировать так, чтобы швы остались незаметными; к тому же полотно было большого размера. По сложности реставрационных процессов на первое место следует поставить композицию «Коляда». Она написана на очень тонком холсте, похожем на полотно. Пастозная, густая живопись картины требовала более прочной основы. К тому же из-за отсутствия подрамника холст дал усадку, сжался, образовались складки вместе с красочным слоем. Эти процессы начались давно, еще при жизни художника. Под тяжестью толстого красочного слоя холст рвался на части различной величины, и Честняков сшивал их суровыми нитками через край, по живописи, а чтобы не было видно швов, прописывал по ниткам. С оборота он подшивал и подклеивал отдельные куски других материалов, и в результате холст оказался в заплатках из клеенки и ткани, нашитых в несколько слоев. Складки, морщины, вздутия при этом не выравнивались, со временем они стали жесткими, почти закостенелыми и расправлялись с большим трудом. Реставрация этого полотна была кропотливой и долгой. С оборота холста удалили все заклейки, заплатки и нитки. Был укреплен красочный слой. Особенно трудно выравнивался холст. Нужно было ликвидировать все изломы и вмятины, не повредив при этом деформировавшегося и принявшего форму складок красочного слоя. Это производилось с помощью рыбьего клея и воско-канифольной мастики с лицевой и оборотной стороны картины. Затем авторский холст был сдублирован и натянут на подрамник. Несмотря на сложности реставрационных процессов, ни одно из найденных полотен Ефима Честнякова не пропало. Работа над его картинами доставила не только профессиональное удовлетворение, но и большое эстетическое наслаждение.
cosmograph.ru
Ефим Честняков | cosmograph
Искусство, культура, живопись
 Шалашка Ефима
Шалашка ЕфимаСавелий Ямщиков о Ефиме Честнякове.
Из записок художника-реставратора
Ефимово «займище»
Детские забавы
Лариса Голушкина.
Честняков и раньше видел, «как задавлен и духовно, и материально» народ, какая во всем бедность. Но теперь, вернувшись в Шаблово и став хлебопашцем, он убедился, как тяжек труд крестьянина, как выматывает он человека, не давая поднять головы, не оставляя ни сил, ни времени. «Множество людей- делают что-то для своего пропитания, мало думая о более существенном… Душа исстрадалась, что мало делается для коренного воздействия на жизнь… жизнь мало совершенствуется, тянется по ночкам и болотинам… тогда как давно пора устраивать пути и дороги…, могучую универсальную культуру», — писал он Н.А. Абрамовой через несколько лет после возвращения из Петербурга.
Что имел в виду художник, говоря об устройстве «путей и дорог» и о «могучей универсальной культуре?» Вот, опять же в письме Н.А.Абрамовой, он пишет о том, что «деревня мало имеет культурных основ, при которых, не выходя из нее, можно бы было разрабатывать изобретение… Русская изобретателъность у нас беспомощна», а она имеет «первенствующую ценность для улучшения жизни». Он озабочен и тем, что «исчезает русская самобытность», истоки которой — в далеком прошлом народа, «все обезличившее себя заняло первенствующие места», а великое русское задавлено и осмеяно и вынуждено молчать «до будущего: тогда око польется могучей рекой…» В литературных произведениях Честнякова, в записных книжках немало волновавших его мыслей и о переустройстве деревни: о новом землепользовании, о механизации хозяйства, об основанных на научных достижениях проблемах орошения земель и выращивания разных сельскохозяйственных культур.
Сопоставив все это, можно предположить, что под «могучей универсальной культурой» он имел в виду развитие материальной культуры, которая даст необходимую основу для преобразования деревни, и духовной — идущей от народной самобытности и включающей в себя культуру крестьянскую — быт, труд, фольклор, народные обряды и обычаи, и культуру городскую — искусство, литературу, науку, мораль, просвещение и так далее. Все это художник постиг, будучи в Казани и Петербурге. При этом Честняков предполагал и взаимосвязь с другими культурами: придет время, когда «русский … от культуры других народов возьмет все, что ему нужно, и вместе со своим элементом создаст великую, универсальную культуру, — писал он Репину.
Понимал ли Честняков, что достичь всего этого в дореволюционной деревне было невозможно? Что при том социальном и политическом положении народа, которым характеризовалось капиталистическое общество, о культуре, служащей народу, не могло быть и речи?
Можно полагать, что понимал. Прежде всего он видел, что «нужда доконала» народ и ему не до искусства. Сам он задыхался от изнурительного труда на пашне. И о своем собственном творчестве писал с горечью: «На крестьянскую ломовую работу у меня … уходит лучшее время. От нее и питаюсь. А от искусства в деревне жить… нельзя… Ведь это не лапти плести, при лучине вовсе неловко… В деревне в эта годы мне с искусством беда». Особенно стало ему трудно, когда умер отец, и «жребий его, ломовой труд, перешел по наследству» Ефиму. В семье — мать и две сестренки, и Ефим — единственный кормилец. «С весны до осени на земле, пока не снег, дня досужего хне нет, а за труд учений мой я садился лишь зимой, да и. то не всегда», — напишет он позже К.И.Чуковскому. Нельзя не привести здесь и отрывок из его записи, где он высказывает свое мнение о кустарной выставке, организованной княгиней М.К.Тенишевой. «…хоть искусство и должно проникать во все скважины жизни, — пишет он, — но мы. еще так бедны для этого… Хотите воскресить задавленное, осмеянное самобытное русское? Действительно ли вы уважаете русскую нацию? Если да, то покажите на. деле, во всем — в государственном строе, во всех деталях жизни…»
В несовершенстве государственного строя — «потому что в стране не мы хозяева», — как писал он в 1902 году в письме И.Е.Репииу, — виделась ему причина всех народных бед. И все-таки, считал Честняков, делать что-то «по возможности желательно». Вера в талантливость народа, который «вынужден стыдиться высказывать свою душу», «скрывать» себя, так как знает, что его не уважают, — эта вера рождала в нем желание помочь людям раскрепоститься, почувствовать живущую в них силу, энергию, талант. Одним словом: пробудить самосознание человека.
Как художник Честняков понимал свою миссию очень широко. В одном из писем к Репину он делился замыслом картины,
воплощающей творческий мир художника. «Реальная фигура — художник, остальное — воплощение его идей,стремлений. Муза с факелом и венком в руке, наука в образе старца, указывающего на книгу мудрости; добро — кроткое дитя; борьба за правду — фигура с энергичным движением… Душа художника—хаос сильных желаний; он чувствует, любит жизнь… он мучится ночи без сна, ломая беспокойную голову: как бы. захватить все — искусство, науку, бороться за правду..; чтобы и он жил и кругом бы кипела прекрасная жизнь, чтобы жизнь пела сплошной музыкой, чудными аккордами…» Здесь четко определен смысл творчества художника как человека, преобразующего жизнь, борца за правду и сеятеля добра. Исходя из этих художественных позиций, Честняков и создавал «свою культуру». Ее конечной целью было совершенствование крестьянской жизни, в которой ему виделась гармония свободного от насилия труда и искусств. В своей деревне, на пятачке русской земли, он пытался построить прообраз «великой универсальной культурна, в тех условиях, которые ему предоставляла жизнь небольшого коллектива людей, объединенных общим трудом, его односельчан, работавших рядом с ним в поле.
Он ощущал в себе силы для этого. Годы учебы научили его самостоятельности, выработалось, по его словам, «свое мироощущение… критическое отношение к жизни во всей ее сложности. Мнение о себе теперь я имею самостоятельное, не разубедить меня в том, что я такое», — писал он Репину. Молодой, полный сил, окрыленный репинской оценкой своего творчества, с присущим ему упорством, неистовством и аскетизмом, несмотря на все материальные трудности, Честняков самозабвенно и с упоением работал в свободное от хлебопашества время. «Искусство поэзии, музыки, живописи… и простой быт жизни /родной край/ влекли меня в разные стороны, и я был полон страданий., и думал и изображал, и словесно писал: меня зовет искусство, и может быть соединю вас всех воедино и выведу миру во всем величии, красоте и славе», — объяснял он позже в письме писателю И.М.Касаткину.
В простой быт, иными словами, в крестьянскую жизнь должны были, по его замыслу, органично войти искусства — музыка, живопись, поэзия. Чтобы «общественные вопросы, которые были, так сказать, сухи в рассуждениях, стали проявляться образами через искусство живописи и словесность». Быт и труд крестьянина художник стремится опоэтизировать, облачить в сказочные одежды. О сложностях жизни рассказать людям не сухим языком, а в образах поэтической фантазии, чтобы пробудить в человеке эмоции, победив равнодушие и безразличие. Только через активное отношение к жизни он способен осмыслить ее и, осознав свое положение, как следствие — испытать стремление к его изменению. В.И.Ленин писал в одной из своих работ, что без человеческих эмоций «никогда не бывало, нет и быть не может человеческого искания истины» *.
На пробуждение эмоций и фантазии человека была направлена вся разнообразная деятельность художника. Причем все, что он делал, существовало в тесной взаимосвязи, составляя единое целое. Свои картины и скульптуры, так называемые «глинянки», он использовал как декорации в театральных представлениях. А многие картины сразу рождались как декорации, чем объясняется их необычная композиция: персонажи повернуты лицом к зрителю, как актеры на сцене, словно в любую минуту готовы заговорить, заиграть на своих незатейливых инструментах. Честняков представлял им же сочиненные сказки, делал музыкальные инструменты, на которых играли, когда шли колядовать или ко время свадеб. Это был созданный художником неделимый мир, из которого изъять что-либо, его составляющее, — означало разрушить «предмет деятельности по причине удаления относящегося к ней». Вот почему художник отказывался продавать свои картины и скульптуры, несмотря на крайнюю нужду. Они были для него не только продукт — произведение его рук, но и средство — «вроде того, как пахарю нужна соха,.. музыканту — скрипка…» Чаще всего во всех своих произведениях он обращался к сказке. Уже в старости, чуть иронизируя над собой, он написал в одном из своих стихотворений:
Ах, проказ же наш Ефимко —
Рыцарь сказочных чудес:
Умудрился невидимкой
В сказке жить всегда и весь!..
Сказка была жанром фольклора, наиболее близким народу издревле. Без нее не обходился репертуар древнерусских артистов — плясунов, песенников, скоморохов. С тех давних пор она прижилась в крестьянской среде навсегда и жила здесь «полной жизнью», по словам известных собирателей сказок братьев Соколовых*.
* Русское народное поэтическое Творчество. М., 1954, с. 233.
В творчестве Честнякова сказка жила в каком-то своеобразном дву-, а то и триединстве. Сочинив сказку, он ее иллюстрировал или писал на ее сюжет живописное произведение, а нередко и представлял в своем импровизированном театре. Так возникли «Чудесное яблоко», «Тетеревиный король», «Город Всеобщего Благоденствия» и другие полотна. «Мне хотелось теперь для людей такой же жизненной радости, шуток, юмора, комизма всякого рода, что гений русского народа так великолепно развернул в своих сказках — на них я и воспитывался», — писал Честняков.
Сказки он полюбил с детства. Часто сидел в овине, где дедушка сушил снопы, и слушал его сказки про кикимору и сосе-душко, про Лесного и Вихра, бабу Ягу и Вещего Бурку. «Дедушка был мастер рассказывать про свои приключения, рассказывал он и сказки, и не забуду, как чудесно рассказывал…» Отец хранил несколько лубочных картинок, подаренных когда-то посредником, учившим его грамоте. «Мудрец юноша на берегу моря» больше всего нравилась Ефиму. Она «навевала особенные впечатления, мечту,.. смутно грезились какие-то чудесные страны, где никогда не бывает зимы,.. горы,.. море. Что-то такое хорошее, умное, неизведанное. И я задумывался…» Часто сказки рассказывала и мать. Но больше всего он любил слушать бабушку, которая, по его словам, в раннем детстве имела на него самое сильное влияние. «Она много рассказывала сказок и про старину, которую любила и хорошо умела передавать… Поэзия бабушки баюкала, матери — хватала за сердце, дедушки — возносила дух». Вымышленное в детском сознании переплеталось с реальным и становилось столь же понятным и близким.
Так, с детства полюбив этот мудрый сказочный мир, он хотел теперь приобщить к нему других. Чтобы люди поверили в его сказки, нашли в них не ложь, но намек, научились мечтать и фантазировать, отрываясь от обыденности.
Сказки Честнякова очень своеобычны. Детские — интересны и взрослым, взрослые — понятны детям. Когда художник показал их Корнею Ивановичу Чуковскому, известный писатель-сказочник посоветовал ему обязательно напечатать эти «сочи-нушки». И в 1914 году в Петербурге в издательстве «Медвежонок» вышла книжка сказок Честнякова, им же иллюстрированная.
Для художника сказка — повод к размышлению о жизни и одновременно способ ее преобразования. Свою мечту он лучше всего мог выразить через сказку, потому что она дает простор
для фантазии, позволяет широко и объемно мыслить. Кроме того, сказка учит состраданию и доброте, о самом важном и сложном рассказывает доходчиво и просто. Щедрое яблоко, которое выросло в лесу, и везли его общими силами все от мала до велика, и которым наелась вся деревня: «Кушали сырым и печеным, и в киселе, и перемерзлым… И хватило им яблока на всю осень и зиму…»,— это символ изобилия, достигаемого людьми только в общем, свободном и радостном труде. И познавать его необходимо с детства, потому что в нем проявляется щедрость человеческого сердца.
На полотнах Честнякова все чаще оживают образы, знакомые по сказкам литературным и фольклорным, — кикимора, лизун, баба-яга, всякие «чудалы». От них он приходит к своим, привнося элемент необычности в самые, казалось бы, жизненные ситуации и вещи. Фантастическое тесно переплетается с реальным. Радуют, удивляют зрителя его домишки, похожие на снопы, птицы-сирины с ликами деревенских девушек, лошадка, что катит по снегу на колесиках, кувшин с огромным ртом, из которого низвергается молочная река. И грибы-великаны, такие, что «насолят из трех груздков кадку в десять ведерков». Рядом с традиционными Аленушкой и Иванушкой появляются честняковские герои — Стафунька, Назарка, Ягодкины, Брусничкины… И вроде бы все знакомое на его полотнах, виденное уже и даже привычное в деревенском обиходе, и все-таки другое, обновленное, словно волшебное. И дивятся люди на Ефимовы чудеса, и задумываются…
Образ поэтической фантазии, родившийся из объективной природы, заставляет по-иному взглянуть на нее, как бы приближает изображаемое. Солнце, представленное фантазией художника в образе такой знакомой деревенской девушки, одетой в простую крестьянскую одежду, словно становится ближе и теплее, помогает людям понять, что солнце и для них, оно светит всем…
Сказка Честнякова, по мере того как рос и мужал ее создатель, становилась мудрее, обретала красоту и силу. Ф.Буслаев говорил, что один припоминает в сказке прошедшее, а другой гадает о будущем. И когда художник рисовал в своей сказке будущее, он тем самым приближал его, давал возможность прикоснуться к нему, осмыслить и понять. Нищее Шаблово в его фантазии превращается в сказочное царство «Город Всеобщего Благоденствия». Эта картина — живописное воплощение сказки «Шабловский тарантас». Она повествует о том, как крестьяне деревни Шаблово построили огромный тарантас, впрягли в него всех лошадей и отправились в Кологрив. Накупили там всякого добра, а вернувшись домой, «надумали обнести всю деревню каменной стеной с воротами, дверями и окошками.., и получился необыкновенно большой дом, а внутри стоят избы и растут сады… Устроили общую большую печь… и тепло по трубам стало расходиться по всей деревне… Перестали топить печи в избах.., и лепешки и пироги стали печь в большой печке… И пироги большущие, с сажень, если не больше… И зимой в деревне стало лето — пташки перезимовывают, скворцы остаются и ласточки… и зимой распевают…» Этот же город /более четырехсот фигур/ он изготовил из глины и назвал его «Город Кордон». Начался он, как когда-то и Шаблово, с одной избушки, и разросся в город будущего, с дворцами и разными замысловатыми обителями. В образе этого города, где все трудятся сообща и создают изобилие, где труд соседствует с праздником, а люди радостны и счастливы, отразились представления художника о будущей жизни, его мечты о народном благоденствии. Пока этот город лишь в воображении художника, это поэзия вымысла. Но у воображения есть замечательное свойство — человек верит ему,
и эта вера заставляет искать воображаемое в жизни, создавать его в действительности.
Очень точно выразил это русский демократ Д.И.Писарев, который прямо утверждал, что если бы человек не умел мечтать, если бы не мог представить в ярких и законченных картинах будущее, он никогда не стал бы вести ради этого будущего упорную борьбу или жертвовать жизнью.
Фантазия для Честнякова — не что-то ирреальное, существующее в воспаленном мозгу мечтателя, а мечта — не воздушный замок, в который он возносился, чтобы отдохнуть от земных забот. Это способ его мышления, особенность художественного взгляда. Фантазия — «проекция всяческого строительства», она «несется впереди практического дела» как прообраз действительности, считает художник. По способности человека мечтать и фантазировать он определяет его духовную наполненность и жизненную активность. «Фантазия — она реальна. Когда фантазия сказку рисует, это уже действительность… и потом она войдет в обиход жизни так же, как ковш для питья. И жизнь будет именно такой, какой рисует ее наша фантазия. И если идея есть о переселении на другие миры, например, то она и осуществится… И те люди, которые в идейном мире от земли не поднимаются, они отстали. Гляди вперед и покажи свои грезы… и по красоте твоих грез ты займешь свое место…»
Какое удивительное по глубине содержания и поэтичное по форме наблюдение! И как перекликается оно с высказываниями известных всему миру художников и писателей, которые в своем творчестве обращались к фантазии и к вопросу ее соотношения с реальным. Франсиско Гойя, например, называл фантазию матерью искусств и всех их чудесных творений. М.Горький писал, что фантазия не противоречит реальному и что нет фантазии, в основе которой не лежала бы реальность. А Достоевский утверждал, что фантастическое должно так соприкасаться с реальным, чтобы мы могли почти поверить ему.
Наверное, нет особой необходимости сегодня доказывать реальность фантазии Честнякова. Само время уже доказало ее. По сути все, о чем он мечтал, что рождалось в его искусстве как «проекция» действительности, стало ею. И это говорит о высоком духе его искусства, о жизненности его поэтических устремлений.
Фантазию Честняков вносил во все — в игры и занятия с детьми, в общение со взрослыми, в работу, в праздники, которые он устраивал на селе. Ею рождены и театральные представления, которые он любил «казать», как говорят шабловские крестьяне, в деревне.
Как они выглядели — можно представить по рассказам односельчан художника.
На двухколесной тележке /она хранится теперь в Костромском художественном музее/ он привозил свой импровизированный театр. Выбрав удобное место у какой-нибудь избы или сарая, расставлял декорации — картинки, глинянки. Занимали свои места герои спектакля — куклы. Честняков выступал в роли актера, режиссера, певца, музыканта. Все оживлялось его искусными руками, голосом, мимикой — начиналась сказка. По ходу действия он не только сам пел, плясал, играл на дудочке, гармонике, свирельке, вел диалог с куклами /типичный прием кукольного театра/, но и постепенно втягивал в действие зрителей, делая их соучастниками спектакля. Это было своеобразное театральное действо, подобное тем, какие устраивали скоморохи и петрушечники. Деревенский мир расцветал в Ефимовых спектаклях-сказках, преображался, очаровывая и взрослых, и детей.
В основе театра Честнякова лежало умение художника видеть мир в движении, во всем находить что-то живое, что может двигаться или что можно заставить двигаться, говорить и тем самым развивать действие, доводя его до логического завершения. Ефим Васильевич обладал богатым даром импровизации. Он умел общаться со зрителем, втянуть его в свою игру. Свобода мышления, изобретательность и находчивость — самые необходимые компоненты импровизационного искусства — позволяли ему быстро развернуть «игру» и заставить людей играть вместе с ним.
Театральные представления Честняков устраивал часто и не только в Шаблове, но и в окрестных деревнях. Его нагруженную «искусствами» тележку везде встречали с радостью. В деревне о представлениях сообщалось заранее в объявлении, которое вывешивалось на самом видном месте и в шуточной форме зазывало зрителей на представление:
Соходися, весь народ.
По копеечке за вход,
Четверть денежки, полушку
Опускайте в нашу кружку,..
Если ж нечего — чудак:
Подходи, гляди и так…
Иногда плата за вход была и совсем необычной: с ребенка маленькая луковица, со взрослого — большая и по галанке /так в Шаблове называют брюкву/.
Много физических и духовных сил вкладывал Ефим Васильевич в эту работу, о которой позже писал в своих стихах:
Фим трудился многи годы,
Окруженный хором муз,
И носился по народу
С грузом созданных искусств!..
Близким к театру было и ряженье, так как в нем тоже присутствовали зачатки театрализованной игры, использовался костюм, грим. Ряженье устраивалось на рождество, на масленицу и во время других земледельческих обрядов. Наряжались медведем, лисицей, обезьяной или принимали облик бытовых персонажей, например, старика и старухи. Одну из старых святочных масок — ряженье цыганом — любил, по рассказам очевидцев, сам Честняков.
Нина Андреевна Румянцева, которая в детстве участвовала в театральных представлениях, вспоминает и о том, как любили они колядовать с Ефимом. Колядки были и народные, и сочиненные самим Честняковым. Участвовали в них и взрослые и дети. «Всех нас, бывало, обредит (именно так произносили в Шаблове) в костюмы, «личинки» — так называли маски. Первая девочка была одета как солнышко — в цветной широкой юбке, с короной на голове. Всем Ефим давал музыкальные инструменты: дудки, свистульки разные, и сам играл — на гуслях, колокольцах, гармошках. Мы шли, пели, плясали, приходили на чей-нибудь двор и прославляли его хозяев:
Коляда, коляда,
Вот пришла коляда,
Ко Ивану на двор,
Ко Васильевичу…
Славили и хлеб:
И веселый — млад и стар,
И несется слава вдаль…
Славу хлебу поем,
Хлебу честь воздаем…
Семье желали сказочного урожая, большого стада, богатства и благополучия. А в конце, по старинному обычаю, требовали от хозяев благодарность за славу:
Но не просит коляда
Да ни пива, ни вина,
По яичку со двора,
По пряженичку…»
Празднику коляды художник посвятил и одно из живописных полотен — «Коляда». Своеобразна композиция картины. Первая ее часть воспроизводит обряд коляды, вторая — сценки труда и отдыха, картины изобилия — те самые «пожелания», с которыми обращается коляда к хозяину дома. В ярких народных характерах художнику удалось передать деревенский дух веселья.
В обрядах художник видел истоки творчества народа. В них люди проявляли себя, выражали свою душу, любовь к природе, земле, друг к другу. Поэтому к теме обряда Честняков обращался постоянно.
В серии графических и живописных работ он отразил крестьянскую свадьбу. Свадьба, которая с древних времен разыгрывалась согласно определенному ритуалу /мы до сих пор говорим «играть свадьбу»/, была очень близка театральному действу. Честняков как бы разыгрывает ее по действиям в своих работах. Из живописных полотен сохранились «Крестьянская свадьба», «Свахонька, любезная…» и «Ведение невесты из бани». …Свадебный поезд жениха и невесты встречает деревня. Им поют величальные песни, дарят цветы и подарки… Кроме жениха и невесты, основными лицами на свадьбе были сваха и дружка. В ритуал входили приговоры дружки, обращенные к гостям, или, как у Честнякова, к свахе: «Свахонька, любезная, повыйди, повыступи, по полу по тесовому, ко мне, дружке веселому».
Свадебная обрядность включала в себя и магические элементы, в частности, веру в чудодейственную силу воды. Поэтому ритуал предусматривал посещение невестой бани — места пребывания домашнего духа, к которому невеста должна обратиться с благодарностью за покровительство. Посещение бани рассматривалось как рубеж между девичьей и женской жизнью: невеста смывает свою девью красоту, расстается с девичеством. «Ведение невесты из бани» — одно из лучших созданий художника в этой серии.
Театральное действо, лежащее в основе свадебного ритуала, так увлекало Честнякова, что он просил односельчан специально для него разыгрывать старинные свадьбы. «Я люблю, когда люди играют. Мужичок, изуставший над сохой, при встрече с товарищем пошутит, расскажет анекдот, прибаутку. В том и красота, чтобы человек возвышался над жизнью в искусстве. Жизнь такова, какова она в творчестве людей, как отражается в их существах… Разным людям жизнь кажется разной. Человек создает красоту жизни, и чем дальше, тем прекраснее ее красота…»
В этой записи раскрывается весь смысл работы Честнякова в деревне — его театральных представлений, колядования, «беседок», в которых он тоже принимал участие и для которых специально писал стихи и сценки: помочь человеку возвыситься над жизнью, оторвавшись от повседневности, «провидеть духом», как говорил художник.
Очень хорошо — просто и точно — ответили шабловские крестьяне, когда у них спросили, зачем, по их мнению, устраивал все это в деревне Ефим Васильевич: «Чтобы заинтересовать людей, — сказали они. — Чтобы не в унынье были…» Лучше всего игровое отношение к миру воспитывается у детей. Игра — это форма их существования. С помощью игры у детей можно воспитать самые лучшие человеческие качества и привычки: любовь к труду, к природе, наблюдательность и т. д. Вся его система воспитания — а Честняков, как увидим далее,
уделял этому вопросу очень большое внимание — была основана на любви детей к игре. Здесь фантазия художника тоже неистощима. Он увлекал ребят разными затеями, во все занятия с ними вносил выдумку. Сказки сочинял самые невероятные и называл их по-своему, по-чудному, например, «Сказка про чудало, соседушко-домоведушко, кикиморы, лизуна, хвостатушко-хвостулюшко, мохнатушко-рогулюшко». Собираясь с детворой на шаболе, высокой горе по-над ключом, он учил ребят летать… Это была одна из самых любимых игр. И часто спрашивал: «Ну что, летаешь во сне? Хорошо… Значит, растешь…» Как добрый волшебник, он опускал руку в огромный карман своего холщового халата и вынимал оттуда подарки — книжки, глинянки, конфеты, свистульки. Детям всегда было интересно с ним. Сохраненную им непосредственность, умение всем восхищаться и всему удивляться, его открытость и щедрость они чувствовали сердцем. После революции Честняков организовал в Шаблове Детский дом — прообраз Дома пионеров и школьников. Здесь все было создано его руками, и все кружки вел он сам. В одной из записных книжек художника сохранился интересный документ: черновик отчета руководителя шабловского Детского дома Отделу народного образования. В начале его перечислены занятия ребят: «Смотрели иллюстрированные книжки, журналы… Чтенье и рассказы, рисовали от себя и по образцам карандашом и красками на бумаге. Работы их /листки и тетрадочки/ хранятся все. Делали разные разнолепестные цветочки из бумаги. Лепили из глины, пели, играли представления в детском театре: «Чудесная дудочка», «Чивилюшка», «Ягая баба» и разные мелкие импровизации». А ниже следует: «Столярных работ и работ ручного ремесла не было по недостатку инструментов и помещения» и приводится список необходимых для налаживания этого дела материалов и принадлежностей. А после расписания занятий и собраний родителей приписка, из которой явствует, что Детский дом Честняков считал «началом универсальной коллегии шабловского образования всех возрастов».
Вот о чем мечтал уже тогда Ефим Васильевич — о всеобщем образовании, о народном просвещении, доступном для всех. Может быть, сегодня все это звучит чуть наивно, но не будем забывать, что происходило это вскоре после революции, в маленькой бедной деревушке, где и грамотных-то людей можно было пересчитать по пальцам.
С детей, считал художник, нужно начинать строительство нового, так как их души — это нива, на которой пожнешь в будущем то, что посеешь сегодня, и добрые семена дадут добрые ростки. Ведь прекрасные порывы детских лет во взрослом возрасте становятся принципами.
«В его Детском доме мы учились всему, — рассказывала мне одна из бывших учениц Ефима Васильевича, — учились рисовать, мастерить, слушать музыку и играть на музыкальных инструментах, он приобщал нас к литературе, читая свои «со-чинушки», и к театру: мы всегда с нетерпением ждали, когда он скрутит в трубочку полог, закрывавший сцену, и нам откроется вся эта несказанная красота… Он учил наблюдать природу, видеть красоту. Воспитывал в нас лучшие человеческие качества: уважение к родителям и старшим. Нельзя, говорил он, обижать других, хвастать и браниться, обманывать и завидовать. Все, что есть во мне хорошего, начиналось там, в его Детском доме. И я навсегда благодарна Ефиму Васильевичу. Как и все, кто у него учился, кто его знал…» Его уроки труда («труд готовый не бери, свой как новое дари»), любви к природе и стране («люби свою землю!»), уроки ремесел, художеств, музыки, этики — это последовательная система
воспитания гармонично и всесторонне развитого человека. Именно так выстраивал он и каждый день своей жизни, сочетая — вполне возможно, следуя Л.Н.Толстому, которого очень любил, — умственные занятия, физический труд, увлечение искусствами и ремеслами и общение с людьми. Видимо, именно такое сочетание, считал Честняков, обеспечивает необходимую гармонию жизни, и воспитывать это нужно с детства. В письме Юрию Репину в 1937 году Ефим Васильевич спрашивал о его сыновьях: «Мальчики уже выросли? Что делают, где учатся? Какие возрастают человеки?» Этот возвышенный стиль — «возрастают человеки» — говорит о том высоком значении, которое придавал воспитанию Честняков. Не случайно в Кологриве художнику выдали справку: «Ефим Честняков — воспитатель».
Вся педагогическая система Честнякова строилась прежде всего на любви к детям. «И славы не нужно, и мнения в мире людей, и мила мне одна лишь улыбка детей»,— писал он в одном из своих стихотворений. И среди огромного количества его полотен трудно найти такие, на которых бы не были изображены дети. Их глазами он смотрит на мир, их устами доносит до зрителя свои мысли, со свойственной детям искренностью, непосредственностью и чистотой. Будь то мысль о щедрости коллективного труда, как в «Чудесном яблоке», о мире, так нужном на земле всем, и прежде всего детям, — в картине «Мир», или о талантливости русского человека, так вдохновенно выраженная им в картине «Слушают гусли».
Это полотно было задумано Честняковым еще в годы учебы в Петербурге, а возможно, и ранее. Сохранился эскиз к нему, выполненный в стиле мастеров «Мира искусства». Символизм, эскизность, экспрессия, особенно в фигурах, прослеживаются в некоторых работах Честнякова, относящихся к годам его учебы в Петербурге. Это своеобразная дань времени, слабый отголосок влияний, которым подверглись в тот период многие художники. Но этот «мирискуснический» этюд, с которого начиналась, надо полагать, его картина, еще более подчеркивает самобытность таланта живописца, так ярко проявившуюся в полотне, — и в самой теме, и в ее живописном воплощении, в колорите — во всем, что мы вкладываем в понятие стиля художника.
…Посреди импровизированного концертного зала — деревенского полуразрушенного сарая — гусляр. Крестьянский парнишка, босой, в домотканой рубахе. Закрыв глаза, он перебирает струны гуслей… «Бегут по звукам быстро пальцы, аккорды будят чувства сон…»
Он возвышается над всеми, а вокруг — слушатели: деревенские ребятишки и взрослые. Одни задумались, ушли в свои мечты под звуки музыки. Другие с восторгом глядят на гусляра. Те, кто сзади, тянут шеи, становятся на цыпочки, чтобы взглянуть на музыканта. Старик закрыл глаза — сосредоточился на музыке, вслушивается в переливы гуслей. «Люди музыки хотят… и улыбка играет на лицах и музыка скромная баюкает их, и струны души говорят и играют, и музыка манит куда-то, к творчеству, к жизни зовет…»
Жизнеутверждающая сила искусства, вера в талант русского человека, заложенный в нем самой природой и проявляющийся с детства, переданы художником очень эмоционально и убедительно. «Слушают гусли» в творчестве Честнякова, пожалуй, самое поэтическое произведение, в котором глубоко передан дух народа. Вся живопись художника певуча, музыкальна. Смотришь его картины — будто слышишь песню: то лирическую протяжную, то удалую плясовую, то величальную свадебную. Но «Слушают гусли» — не песня, а музыка. Ты ушел, а она все звучит в тебе…
Прошло уже немало выставок Честнякова. И каждый раз, попадая в мир его полотен, где, кажется, все уже знаешь наизусть, как зачарованный, не можешь от них оторваться. Здесь все завораживает. Необычный колорит — гармония подсмотренных в самой природе изумрудных, серовато-бирюзовых, серебристо-голубых и розовых тонов, смягченная, без резких переходов гамма, создающая у зрителя ощущение полуфантастичности, сказочности всего изображенного на полотне. Стройность композиций, их легкость и точность, несмотря на много-фигурность и внешнюю перегруженность, — в «Городе Всеобщего Благоденствия», например, более ста двадцати персонажей. И прежде всего, конечно, сама сказка, такая понятная и близкая человеку. Каждая картина Честнякова — единая гармоническая система, в которой все зрительно и музыкально созвучно. Стоя у его полотен, веришь, что он именно «трепетал над каждым мазочком», как говорил сам. Этот трепет, тепло и доброту, вложенную в них создателем, картины дарят зрителю. Они сердечны, потому что написаны сердцем, и о том, что сердцу дорого. И для тех, кто сердцу дорог, — ведь все свое творчество художник посвящал непосредственно тем людям, среди которых жил, рядом с которыми работал, которых любил.
Художник не зря называл себя рыцарем… Сегодня, правда, это устаревшее с годами слово вызывает скорее иронию, чем восхищение. Но если обратиться к его истинному смыслу, то рыцарь, как говорит словарь В.И.Даля, — это «честный и твердый ратователь за какое-либо дело, самоотверженный заступник». То есть человек, преданно и бескорыстно любящий, служащий предмету своей любви чисто, честно и искренне, не думая о выгоде и награде. И Ефим Честняков, конечно, был рыцарем. Рыцарем своего народа и рыцарем искусства. И тому и другому он служил трепетно и самозабвенно. «Я родился и вырос и делом занимался больше в деревне, — писал он в одном из писем, — и не хотелось бы работать поставником для городских музеев и театров». Преданный Репину, он тем не менее не воспользовался его советом — создавать себе имя, показывая работы на выставках «Мира искусства»: народ на эти выставки не ходит, а имя в среде буржуа ему не нужно. «Считаю свои вещи не туда относящимися, — замечает он. — Цели не те..,» Не хочет и писать портреты по заказу; отказывается от участия в парижском Салоне, от предложения изготовить на фабрике скульптуры из фарфора.
В набросках одного из драматических произведений Честнякова находим интересный диалог художника Радугина /несомненно, автобиографический персонаж/ с вымышленным царем Форараем.
«Царь: Поступай придворным художником к нам. Все тебе будет: роскошное помещение, поезжай, куда хочешь, бесплатно и делай, что желаешь, в своем художестве… Радугин: Если бы при нашем селенье… У меня тут многолетнее дело». Среди его стихов есть строчки:
Давно ищу певца страны родной,
Одеждой беден я, и посох самоделен,
Но братия стоит великая за мной,
И мир ее желаний чист и беспределен.
Он не мог изменить этой братии. Карьере художника, которая, несомненно, состоялась бы, откликнись он на все предложения, карьере живописца для буржуа Ефим Васильевич предпочел рыцарское служение народу, искреннюю преданность высокому искусству.
Искусству он был не просто предан. Он был ему отдан… «Я знаю, — обращается он к искусству в раздумьях о нем, —
ты не любишь тех, кто кроме тебя ничего в жизни не знал: они ничем для тебя не жертвуют, ничего тебе не приносят, — ведь они только тебя знают, — они скучны, наивны, бессодержательны, для тебя неинтересны. Ты не любишь и тех, которые живут и тобой, и другим, не хотят для тебя жертвовать всем: недостаточно любят и понимают тебя; ты видишь, что недостойны они и им не открываешь себя. Ты любишь только того, только тому раскрываешь красоту свою несказанную, кто знает все, и от всего для тебя отрекается — так сильно он любит и ценит тебя: потому что ты прекрасно как жизнь».
Искусство, считал Честняков, «обширная арена для всякого героизма». И отдаваться ему нужно целиком.
Несмотря на постоянную нужду, когда не хватало средств не только на покупку красок, кистей и других материалов, но и на пропитание, он никогда, ни разу в жизни не продал ни одного своего произведения. В письме И.Касаткину он писал: «Продавать нельзя, они не продажны ни за все сокровища мира… Они не имеют цены, потому что они не шаблон в торговле…» Продажа, считал художник, это «неуклюжее в отношениях между людьми наследье старины… И пригодно только относительно простейших предметов… Есть вещи, которые и оценивать невозможно…»
И это в то время, когда художник считался признанным, если его картины покупались.
Он мог бы зарабатывать, «не выходя из деревни» и «обслуживая округу крестьян рисованием портретов», как он говорил. Но он был не только «рисовальщик». Он был художник — с богатым «жизненным содержанием души», которая не допускала «оскудения и глухоты к окружающим, к миру» и постоянно требовала «струи свежей жизни», «впечатлительного» интереса к ней.
Его отношение к искусству — это своеобразная эстетическая система, основанная на особом восприятии красоты как начала созидающего, доброго. Все, что несет радость и свет, что творит и возвышает, — это красота. Красота — жизнь и мир на земле. Все прекрасное в человеке — тоже красота. И если бы человек творил только красоту, отказавшись от всякого зла, жизнь была бы еще прекраснее, «весь мир был бы одной красотой». И отсюда призыв: «Трудитесь над совершенствованием мира — это и есть путь красоты и радости». Этому посвятил Честняков и свою жизнь.
cosmograph.ru
| О.Проскурнина, Е.Бакулин. Гений места. Детали. - художник и крестьянин, праведник и скоморох, пророк, покровитель костромского люда и святой-юродивый.  Художник и крестьянин, драматург, поэт, праведник и скоморох, пророк, покровитель костромского люда и святой-юродивый. Всё это – о Ефиме Васильевиче Честнякове, который судьбе столичной знаменитости Серебряного века предпочёл лесную глушь и свободную жизнь в русской традиции. А слава всё-таки пришла к нему - посмертно. Чисто российское открытие Летом 1968 г. экспедиция Костромского художественного музея собирала народное творчество в Кологривском районе. Глухомань, от областного центра – 360 километров, рассчитывать особо не на что. Но тут к музейщикам в автобус подсаживается словоохотливый местный житель и в разговоре упоминает про некоего Ефима из деревни Шаблово,который "не абы кто - в Питере у Репкина, что ли, учился"… Неужели ученик самого Ильи Репина? В Шаблово, по законам жанра, им тоже помог случай. Водитель автобуса попросил водицы в одной избе, и приметил какую-то диковинную картонку на крынке с молоком у хозяйки. Позвал главного хранителя музея Владимира Макарова - а тот глянул и поразился: да это живопись… причём живопись руки подлинного мастера! И шабловцы, убедившись, что приезжие относятся к находке с должным уважением, стали один за другим приносить и показывать гостям полотна "Ефимушки", написанные иногда на загрунтованных холстах фабричного изготовления, но чаще на домотканой холстине, а то и наматрасной ткани. Несли и карандашные портреты, и раскрашенные скульптурки из обожженной глины, "глинянки". "Ефим-то уж семь лет как помер, - рассказывали деревенские. – 87 лет без малого прожил. Семьи у него не было -всем мироми похоронили, по очереди на руках снесли на кладбище за четыре километра". А работы, что в Ефимовой мастерской остались, они показали было в Кологриве местному начальству, которое по культурной части. Но местное начальство отмахнулось: "Художественной ценности не представляет". Спустя десяток-другой лет после его смерти московские искусствоведы, готовя картины Честнякова к первым выставкам в Европе, скажут: нет, дорогие друзья, это не какой-нибудь там провинциальный наивный художник - перед нами мастер живописи, поэзии и прозы мирового уровня. Да, вот так - именно мирового. И стиль его сравнить не с чем. В русской культуре искусство Честнякова представляет собой совершенно особое явление. "Это фигура возрожденческая", - напишет знаменитый реставратор Савва Ямщиков. А в первые годы после смерти Ефима Честнякова его наследие разбирали по домам ничего этого не ведающие односельчане. Глинянки вот только сберечь не удалось - мальчишки из озорства порастаскали да побили, всего и осталось четыре десятка из восьми с лишним сотен. И картинами кое-кто полы в сенях устилал, или вот под крышки для молока приспособил – понятно, что это живописи тоже на пользу не пошло. Но у многих работы Ефима висели в красных углах вместе с иконами. И когда музейщики уговаривали крестьян отдать картины в музей, шабловцы долго не соглашались. Почитали они эти полотна, оказывается, наряду с семейными реликвиями. Так что спасли искусство Честнякова не только реставраторы Костромы и Москвы, как принято писать – в первую очередь за это надо благодарить крестьян далёкого от цивилизации Кологривского района. У них, как выяснится в наши дни, для такого культурного акта были серьёзные, хотя на иной взгляд и странные, мотивы. Но это сочетание как раз для всей истории Ефима Васильевича Честнякова очень даже характерно. Чудо во храме Фамилию Честняков он выбрал для себя сам, получая паспорт. На самом деле его должны были бы величать Самойловым, по имени деда, как было принято тогда в деревне. Родился Ефим 19 (31) декабря 1874 года, в семье "безденежных землепашцев", по его выражению. Однако с раннего детства рос, как бы сейчас сказали, в творческой атмосфере. Его бабка Прасковья знала бесчисленное множество сказаний и сама их придумывала, импровизировала; отменный дар рассказчика был и у его деда Самойлы, да и родители от них по этой части не отставали. В общем, корни были глубокие. И лет с четырёх Ефим, к удивлению домочадцев, сам начал рисовать – да так похоже на то, что в жизни! "Мать моя отдавала последние гроши на бумагу, на карандаши. Когда немного подрос, каждое воскресенье ходил к приходу (4 версты) и неизбежно брал у торговца Титка серой курительной бумаги […], - рассказывал он позднее в одном из писем к своему учителю Репину. - Когда идут в город, то со слезами молил купить "красный карандаш", и если привезут за 5 к. цветной карандаш, то я – счастливейший на земле и готов ночь сидеть перед лучиной за рисунком". Тут стоит особо выделить еженедельные посещения храма. Заурядная сельская церквушка в селе Илешево, но внутри – фрески высочайшего европейского уровня. Специалисты сейчас сравнивают их даже с рафаэлевскими росписями. Об авторе мало что известно – Сила Иванов, крепостной художник из здешних мест, учился в Петербурге в первой половине XIX века. При большевиках в храме был соляной склад, роспись замазали краской, и те изображения Воскресения и Благовещения, о которых вспоминает Честняков в письме к Репину, ещё не обнаружены. Но, как бы то ни было, будущий художник с младенчества имел весьма достойные ориентиры в живописи, хоть и рос буквально в медвежьем углу. К образованию он тоже с малолетства стремился сам. Родителей-крестьян это даже раздражало: единственный сын ("честняк" по-костромски), будущий добытчик и опора в старости, - какие тут ещё книжки?! В раннем детстве с плачем рвётся к соседу учиться грамоте. Ну, отвели в шутку – мол, побалуется и домой прибежит. А Ефимка так славно учился, что сосед написал похвальный лист для земской школы. Там учительница тоже нахвалиться им не может и вместе со священником настаивает на поступлении в уездное училище. Дело кончится тем, что Ефим удерёт в Кологрив, за двадцать с лишним вёрст от дома. Занятия в уездном училище уже месяц как начались, но его на правах таланта-самородка принимают без экзаменов. В Кологриве у Честнякова появился настоящий учитель живописи – Иван Перфильев, выпускник петербургской Академии художеств (он учил в своё время акварелиста-передвижника Георгия Ладыженского). Раньше-то Ефим постигал рисовальные секреты буквально методом тыка. Увидит, бывало, зимой красивую ветку у берёзы да и попробует изобразить на бумаге, а как видит, что непохоже вышло – давай по снегу веткой хлестать. Сам придумал: чтобы отпечатки оставить и получше в них вглядеться-вчувствоваться. После уездного училища – пять лет в учительской семинарии в Ярославской губернии. Художествами и словесностями опять приходится заниматься самостоятельно – атмосфера в этом сельском ПТУ XIX века, судя по его воспоминаниям, была довольно косной. В 1894 г. Ефим получает звание народного учителя и ещё пять лет преподаёт в начальных школах Костромского и Кинешемского уезда. Вдумчиво читает всё, что удаётся добыть в тогдашней русской провинции – от журнальной литературной критики до Шекспира. Участвует в любительском театральном кружке. И рисует постоянно, конечно же. А в декабре 1899 г., окончательно определившись со своим жизненным призванием, 25-летний Ефим Честняков едет в Петербург - поступать в Академию художеств. В миру искусства Его не приняли. Требовалось специальное образование по художественной части, так называемый ценз, которого у сельского учителя начальных классов не было. Но работы Честнякова каким-то образом попали к Илье Репину – и мастер, похвалив автора за "несомненные способности", выразил готовность взять его в свою студию на обучение. Так, едва приехав в столицу, Ефим был зачислен в мастерскую живописи и рисования княгини Тенишевой, которой руководил Репин - по сути на подготовительные курсы Академии художеств. Старостой его курса был Иван Билибин, будущая звезда "Мира искусства". Как видно из ранних студийных работ Честнякова, стилистически он сперва и сам тяготел к "мирискусникам". Но в действительности уже тогда Честняков был Честняковым, и первым это понял опять-таки Репин. Поглядев на его эскизы после первого года обучения в Тенишевском училище, мэтр по сути снял шляпу перед учеником: "У вас талант... Вы идёте своей дорогой, я вас испорчу. Вы уже художник. Это огонь, это уже ничем не удержишь". Заканчивайте, сказал, свои эскизы, как вам самому больше нравится. Посоветовал ещё заняться получением нужного для Академии ценза (в Тенишевке его не давали) и, не откладывая, выставляться на вернисажах "Мира искусства". С цензом возникли сложности: только в 1902 г. Ефима зачислили в Высшее художественное училище при Академии, и то вольным слушателем. А тут ещё и с деньгами стало напряжённо - купцы из Кинешмы, которые спонсировали его поступление в академию, урезали финансирование.А ведь скромный в быту Честняков (никогда не пил вина, не курил табака и не ел убоины) содержал на купеческую стипендию сестёр-гимназисток в Кологриве и родителей в деревне. Пришлось в 1903 г. переехать в Казань и поступить в тамошнее художественное училище, лучшее по части живописи в провинции, чтобы получить этот самый ценз. А вот рекомендациями Репина по части выставок он не воспользовался. Ему лично это было малоинтересно - наш герой вообще не любил себя выпячивать. Сохранилось всего три прижизненных его изображения. Карандашный автопортрет в юности, фотография в парадном костюме, да ещё на групповом фотоснимке тенишевцев Честняков в заднем ряду, единственный из всех не позирует. Что говорить, если даже на своих картинах он авторской подписи и даты не ставил (по этой причине все живописные работы, хранящиеся сейчас в Костромском художественном музее и его кологривском филиале, датированы оценочно - "первая четверть XX века"). Индивидуализм отсутствует напрочь. Из мира Ефим Васильевич Честняков себя не выделял – он соединялся, сливался с ним. На рубеже 1905 г. Ефим возвращается в Петербург с нужным для академии "цензом". А в Петербурге спустя пару недель – всем известное "Кровавое воскресенье". И многомесячный мятеж вслед за ним. В судьбе Честнякова это был очередной переломный момент. Осенью 1905 г. он принимает осознанное решение вернуться из Петербурга на родину, в тихое Шаблово. Но вовсе не из-за беспорядков и бедности. "Вся суть дела в том, что не хочу я профанировать свою русскую душу, потому что не понимают, не уважают её, и не хочу её заменить скучной, корректной, лишённой живой жизни душой европейца – человека не артиста, полумашины", - написал он как-то Репину. Так что вся эта революционная борьба, из-за которой на несколько месяцев отменялись занятия в петербургских академиях - она Ефиму, можно сказать, только на руку. Домой добирается неспешно, с грузом своих картин, эскизов и скульптур (бывая в Эрмитаже, он увлёкся мелкой древнегреческой пластикой из раскопок бактрийского города Танагры и стал лепить сам). Везёт из столицы маленькую гармонику-тальянку, на каких любил играть. Всякие достижения городской цивилизации: компас, фотоаппарат, патефон, книги по искусству, научная литература… И собственные рукописные книги. Честняков ведь вообще беспрерывно иллюстрировал свою жизнь – стихами, прозой, эссе, рисунками. Из деревенской записной книжкитого периода: "Искусство постигает всё…Учился и вот живу дома. Я думаю: засвети-ка лучину, Ефим!" "Столица мошенников наподобие Риму" Через восемь лет он ещё вернётся в Петербург - подучиться, но ненадолго. Будет заниматься в академической мастерской профессора Дмитрия Кардовского. Погостит в репинских "Пенатах", крепко подружится там с сыном хозяина, Юрием, тоже художником. "Раз был при Шаляпине. Желали, чтобы я почитал из своей словесности, и я зачитал немножко…" (из письма меценатам в Кинешму). Он познакомится с Корнеем Чуковским, с Сергеем Городецким, побывает в супермодном по тем временам салоне Мережковского и Гиппиус. "Ах, русский Танагра!" - восхищаются репинские приятели честняковскими глинянками. Репин предлагает простой план, как пробиться в столице: глинянки - в тираж на фарфоровый завод, а картины выставить в Петербурге и Париже – Россия нынче в моде, "Дягилевские сезоны" и всё такое, состоятельные покупатели непременно найдутся. В общем, хорошие открываются перспективы. И что же Честняков? А Честняков носит свои картины в самодельной тканевой суме на лямке, демонстрирует их в петербургских богатых квартирах, рассказывает всякие диковинные истории, читает стихи – и ничего никому не продаёт. Репин даже наорал на Ефима однажды. Протягивает ему ассигнацию – мол, возьмите хоть на обратный билет до дома, раз картины не продаются. А тот отказывается. Да, говорит, искусство моё для продажи и не предназначено - но денег, спасибо, не надо, мне бы работу какую найти в Питере… Но кому и за сколько продашь, к примеру, такое? Вот как Честняков описывает замысел одной из своих картин: "В горе сотворены залы, проложены ходы, полы выложены цветными камнями, а стены – увешаны картинными коврами…Залы представляют как бы нижний этаж, а к верху, туда, где самые тёплые и сухие покои и сокровенные хранилища, недоступные холоду, ветрам и пожарам, где книги, картины, статуи, - ведут прекрасные лестницы. В том доме сады и цветы, ручьи и фонтаны, причудливые диковинные раковины. В бассейне плавают рыбы, звучат голоса певчих птиц,и хороводы малых солнц на небе, и – две луны. Качаются в воздухе, как на пуховых волнах, цветные колыбели, хоры гармоний сливаются с радугами… А грибы – выше крыш. В грибах – живут. Дома, как горшки, горшки – величиной с дом. А вот сделан огромный ондрец [двухколёсная тачка] выше дома. Для чего? А так…И большущая раковина с избушку – в ней овцы нашли себе приют". Да, укрепившись в своём мастерстве, он окончательно определится и со своим предназначением в искусстве. "- Если бы и мог продавать диковины своего труда, он и дорого брать опасается, чтобы не захватить от труда других и греха не заваривать…и дёшево тоже неладно. Не знает цены…и нет цены. [… ] - Он хранит свои диковины как святыню…Ему жаль людей…Он хотел бы диковины показать всем людям, а не частным продать только…И опасается в то же время – не все поймут…". Это уже из "Сказания о Стафии – Короле Тетеревином", эпического романа типа фэнтэзи, над которым Честняков под настроение работал многие годы.Стафий, о котором идёт речь в приведённом выше диалоге, – альтер-эго нашего героя. Как и более ранний персонаж другого сказания с романтической фамилией Марко Безсчастный (в авторском написании). Вот, скажем, почему Честняков всю жизнь прожил в одиночестве? Ему ведь не просто подруга или жена была нужна, нет - Муза, вдохновительница, духовная сестра…Возлюбленную Марко Бессчастного зовут не как-нибудь - Грёза. Фабула "Тетеревиного короля" состоит из безуспешных попыток главного героя сосватать себе невесту – в деревнях, городах, в царском дворце, наконец. Единственная, в ком Стафий встречает сердечное понимание – Одарья, одинокая обитательница заброшенной деревни в лесу: "Чувства её глубоки, разум прост и велик…душа ясно видит несказанно прекрасные обители душевного мира…Как святая". Но наяву Честнякову она так и не встретилась – ни в Шаблово, ни в Кологриве, ни тем более в Петербурге. "Международная столица мошенников наподобие Риму стала удивлять зрелищами…Город вдали от своей страны, набегами собирающий дань и содержащий сестёр и братьев своих невольниками. Место для сброда. Какие права я могу получить тут?" Такой вот суровый вердикт из петербургской записной книжки 1903 года. И в 1914 г., когда начинается Первая мировая война, этому городу уж точно не до "диковин" Честнякова. Единственное, чем в финансовом смысле удалось оправдать вторую поездку в столицу, – издание двух детских книжек со сказками Честнякова и авторскими иллюстрациями. Издательство "Медвежонок" заплатило солидный гонорар - 150 рублей. Холстов и красок, закупленных тогда в Петербурге, ему хватит на много лет. Когда кончатся фабричные грунтованные холсты, наступит черёд домотканого полотна, простыней... А краски он будет готовить сам, растирая местные цветные глины и сланцы. А что, говорил он, итальянцы во времена Ренессанса так же делали: "Ну, у нас не Италия. Там яркость, у нас скромнее. Зато там нет того, чтоу нас. Нет у них таких морозов и вот такой синевы-маревы, лесов таких…". Вселенское благоденствие Мимо Шаблово и Кологрива течёт река Унжа - неширокая, на первый взгляд тихая. Но войдёшь в неё по пояс – и едва устоишь на ногах: такой силы течение. В верховьях реки выходят на поверхность залежи аммонитов, это такие окаменевшие моллюски, обитавшие на дне доисторического моря от 400 до 80 миллионов лет назад. А течёт Унжа к Волге сквозь могучие реликтовые ельники, которых топоры лесорубов не касались несколько сотен лет. Это очень древняя земля, и с горы Шабала, на которой стоит родная деревня Честнякова, открывается настоящая даль неоглядная – так, кажется, и полетишь над ней, раскинув руки-крылья. Вот куда он стремился вернуться из столичного хаоса – а, воротившись, укоренился здесь на всю оставшуюся жизнь. С Шабалы его Стафий будет отправляться в странствия на самолично изобретённом и построенном летучем корабле в виде птицы. "Куда-то вкладывался внутри корабля маленький ящик с запасом энергии внутри, и так, что его не было видно". В сложенном виде этот летательный аппарат из плотной шёлковой ткани можно было носить на плече или под мышкой, а раскладывался он по нажатию одной кнопки. Утопия, ненаучная фантастика? Или нанотехнологии недалёкого будущего… "Культуры городов я опасаюсь, потому что она имеет не только хорошие, но и дурные стороны. И я желал бы хорошей культуры деревням…и охранять их от растлевающей и хищнической культуры городов, и всё обдумываю, как бы этого достигнуть". Да, эту тему Ефим Васильевич Честняков, как и герой его романа, проработал капитально. Замысел был просто грандиозный. "Универсальная культура". Гармоничный синтез народной традиции со всем лучшим, что порождено мировой историей искусств и наук. Всеобщее благоденствие и творчество. Причём, в отличие от индустриализации XX века, без какого-либо вреда для окружающей среды – это принципиальное условие. И ведь всё это были не какие-то эфемерные мечты. Вернувшись из Петербурга в 1914 г., Честняков всерьёз принялся проводить в жизнь свою программу. Но надо ещё представить себе, в каких обстоятельствах это происходило. Мужа сестры Татьяны призвали на войну, и Ефим остаётся единственным кормильцем стариков-родителей и сестёр с племянниками. Значит,"искусства" иразмышления автоматически отодвигаются до зимы: всё остальное время в селе без остатка уходит на труды по хозяйству. И что же? Извольте полюбоваться на афишу: "В деревне Шаблово По воскресеньям и праздникам Ефим Честняков Показывает Детям и взрослым изделия из глины и живопись Билеты платные, получать у Ефима Васильева". За много лет до современных западных художников Честняков у себя в деревне творил настоящие хэппенинги с поэтическими и музыкальными импровизациями, с участием "глинянок" и картин - вовлекая в действо всех зрителей, детей и взрослых, наряжая их в лепные маски на манер античного театра. И деревенские жители откликались со всей мыслимой непосредственностью. Не зря он рвался из Петербурга в Шаблово: чуял же, что публика - его публика, способная "без хитра", без умствований включиться в творимую им жизнь – здесь, а не в столице. А ещё крестьяне по просьбе Ефима Васильевича разыгрывали для него в лицах старинные обряды по всем правилам – сватанье невесты, например. Собранный таким образом живой этнографический материал он переносил в свои пьесы, которые сам же потом и ставил. Причём уличные представления Честнякова часто разворачивались прямо среди его живописных полотен, вынесенных под открытое небо. А картины, в свою очередь, служили иллюстрацией к романам, рассказам, сказкам. Такой, скажем, сюжет: ночной лес, на телеге лежит невероятных размеров яблоко, но тянут телегу не лошади, а взрослые и дети - семья, похоже. Как прикажете сие понимать, Ефим Васильевич? А вот вам сказка "Чудесное яблоко": осенью старик находит в лесу огромный фрукт, который от спелости сам валится с дерева к нему в телегу. Но вывезти находку, как кричат старику сидящие на дереве сова и тетерев, нельзя даже на четвёрке лошадей - только если возьмётся вся семья целиком,"все до выгреба". И даже когда все они впрягаются в телегу, та приходит в движение лишь после появления нянюшки с младенцем, который тоже подталкивает ручками яблоко. "Кто вам дал?" - спрашивают односельчане; "Бог дал", - отвечает старик и угощает их всех яблоком, которое не убывает "до самого Христова дня". Это не просто сказочка для детей. Это - к вопросу, в чём Честняков видел условие для того самого всеобщего, вселенского благоденствия. Опора на силу рода, семьи, и, как следствие, гармонично живущего со всей Природой социума способна творить чудеса – такой вот мессидж. А возьмём, для примера, огромное полотно "Город всеобщего благоденствия". Это необычайно населённый мир, в котором на фоне всевозможной фантастической архитектуры одновременно, словно сквозь сон, разворачивается множество событий. Вот нарядные девочки в костюмах разных народов – русских, украинских, прибалтийских, азиатских - поют и танцуют с музыкальными инструментами. Вот взрослые и дети спускаются по дворцовой, вроде бы, лестнице с огромными пирогами на плечах. Какая-то милая особа наклеивает афишу на колонну, а сверху с балюстрады на это глядят люди, городские и деревенские; а вот изба, вплоть до печной трубы утыканная развесёлыми чучелами на палках. В другой избе прядут при лучине в вечернем сумраке – хотя снаружи ясный день; рядом некий господин в костюмчике-тройке, похожий на Ефима Васильевича в молодости, метёт шваброй каменную мостовую… И мир, открывшийся перед нами, так огромен, что словно бы вываливается из рамы. За её пределами явно происходит что-то ещё, намекают таинственные арки, из которыхк нам выплескиваются эти умиротворяющие чудеса. И у этой-то ни с чем не сравнимой картины был совершенно конкретный прототип. "Кардон" - глиняный город, в котором обитали глиняные же "актёры" его театра – каждый со своей ролью, за каждого автор говорил его особенным тоном (а Репин ещё предлагал отдать их в тираж на фарфоровый завод…). К счастью, мастер сам сфотографировал утраченный ныне "Кардон" в собранном виде и оставил его описание. Описание модели совершенного мира, в котором без проблем и противоречий взаимодействуют "жрецы, народ, герои всех времён и народов… духи тьмы, мифические существа всех стихий и жители небесных миров". Так гласит афиша, которую Ефим нарисовал у входа в театр на одном из своих эскизов петербургского периода. И так со всеми его картинами - поверхностных историй там не встретишь. Искусство, которым владел Честняков, - оно, как в древности, выполняет своё истинное предназначение: соединять воедино человека "со всеми стихиями и небесными мирами". Это, с позволения сказать, Ритуал в самом высоком значении. А не просто фиксация впечатлений одарённого индивидуума, чему обычно учат в академиях художеств. Или - если уж живопись, то буквально от слова "живо": как-то вот удавалось ему насытить героев своих полотен такой энергией, что и поныне воспринимаешь их как настоящие живые существа. Каждый из них живёт вкартинах по-прежнему и излучает эту энергию, как при своём рождении. Европейское антропоцентричное искусство такого даже и не знает. Кстати, если картины и рисунки Честнякова в целом отреставрированы и приведены в порядок, то расшифровка его литературного творчества в Костромском художественном музее всё ещё продолжается. И это - трудно. Книги написаны мельчайшим убористым почерком - ведь с бумагой на селе в те годы было не лучше, чем во времена Ефимова детства; чернила тоже не всегда водились, а карандашная надпись, она же со временем стирается – попробуй, разбери спустя полвека… Но вот что здесь примечательно. "Те годы", которые выпали на долю Честнякова – две мировые войны, гражданская война, ад коллективизации и сталинских репрессий – решительно никакого отпечатка мрачности и трагизма на его творчество не наложили. Явно вне времени жил человек. В своём каком-то времени – в вечном, наверное. "Наш фестиваль" И вовсе не в том дело, что он закрывался от реальности сказками да выдумками. Взять хотя бы стихи его: простые по стилистике (как принято в народной поэзии), по смыслу это - адекватные, чёткие оценки происходящего: "Культурный город там и тут, - И вожделения растут, И будто ими города Не будут сыты никогда. Коль пресыщения достигнут, То от него же и погибнут. Изобретаем мы проект К Луне летающих ракет. И станем обирать страну, Чтобы слетать нам на Луну. Потом и к Марсу свой полёт Направит, может быть, пилот. Культурный город создадим, Въезд деревенцам запретим, И будет он подобьем касты…" Или ещё проще: "…И пока ломают двери, Я в коммуну не поверю". Довольно быстро разобрался он в советской власти. В 1918 году в Кологриве, в бывшем особняке князей Абашидзе открылся Дворец пролетарской культуры. Откуда, кстати, в костромской глубинке взялись аджарские князья: Кологривский уезд – "ссыльный край", сюда издавна отправляли всяких "политических", вплоть до декабристов (к большой пользе для местной культурной жизни, между прочим). Так вот, в кологривском Пролеткульте издаётся сразу два журнала по искусству. Честняков для них писал, а ещё преподавал в художественной студии (один из его учеников, Владимир Державин, стал выдающимся поэтом, прославился как переводчик со 120 языков, от Омара Хайяма до якутского эпоса "Олонхо). А потом он открыл в Шаблово детский сад. Малыши рисуют, учатся читать, слушают сказки Честнякова и устраивают на деревенской площади представления по его пьескам и "мелким импровизациям". "Считаю, что наш детский сад есть начало универсальной коллегии Шабловского образования всех возрастов", - пишет мастер в официальном отчёте о проделанной работе. Но самый лучший отчёт - его картина "Наш фестиваль". Там дети и подростки, в разноцветных лаптях или босиком, в самодельных нарядах из пёстрых заплаток, в масках и бородах из льняной кудели, выстроились в ряд перед нами, зрителями - и старательно поют, играют на свирельках, гармошках и погремушках кто во что горазд. А на заднем плане тоже зрители. Много, много людских лиц… И не только, извините, людских. Духи - хранители очага из народныхсказаний – Лизун (он своим огромным языком подбирает сметану из крынок, не закрытых плохими хозяйками), Кикимора, Домодедушко – все они в картинах Честнякова существуют на равных с людьми и всякой живностью. Помните афишу с театрального подъезда про "жрецов, народ и мифические существа"? Как в китайской художественной традиции живописный свиток должен была заключать в себе всё Дао, так и у Ефима Васильевича каждое полотно – воплощение всего мира целиком в его гармоническом единстве с гармоничными людьми. Он, кстати, именно из чувства почтения ко всему живому принципиально не ел мяса. И всякой охоты-рыбалки не переносил. 82-летняя крестьянка Алевтина Соколова, в детстве игравшая в спектаклях Честнякова, вспоминает, как однажды в деревню заскочил заяц и они, дети, бросились его ловить. Ефим не позволил: сказал им, что заяц – его друг, и сам прогнал "друга" в лес. В картине "Коледа", в которой стихотворный текст на манер русских лубков включён в композицию, изба добрых хозяев схематично разделена на три уровня. На верхнем – хозяйская семья, на среднем показан их труд на земле, а на нижнем уровне – троица домашних духов и обитатели скотного двора. Все радостны и довольны, все пребывают в гармонии друг с другом. Злу нет места в этом мире. Да, зло существует, этот факт не отрицается - но и не акцентируется. Его просто вытесняет добро - без особых усилий, в самом зачатке, когда зло ещё не успело проявиться. Как в "Сказании о Стафии…", когда главного героя пытаются втянуть в драку: Стафий побеждает противника, не наступая, а занимая оборонительную позицию и используя силу нападающего, чтобы его же и притормозить. Да и сам Честняков был неуловим для зла. Хотя всю взрослую жизнь прожил под негласным надзором "органов". И ведь его сестру Александру в 1930-е уже выслали из Кологрива в Сибирь на 10 лет. И по его душу не раз приходили, вспоминали потом крестьяне. Только ничего у бойцов невидимого фронта не вышло. Потому что выглянет Ефимушка из окошка, увидит, что за гости к нему пожаловали, выбежит во двор да и проскачет вокруг них три раза на палочке. Потом закричит: "Кукареку-у!" и, пока ошеломлённые гэбисты приходят в себя, - снова в избу. А одевался он в сшитые по собственным проектам плащик или пиджачок, затейливо украшенные пёстренькими заплаточками. И требовал, чтобы его называли Ефимка, или Фимка, Фим. Как выразилась одна из его землячек-недоброжелательниц, "вы бы посмотрели – тоже сказали бы "как ненормальный". Так что маска деревенского скомороха-юродивого оказалась уместной. Что под маской "Вы, может, спросите, возможно ли какое искусство в морозной шалашке? Без тёплого ателье. Без намёка на покой. Под аккомпанемент гама и сварливых склок, воровства и пьянства – варварских дикостей? И конечно же, надобно здоровье, пропитание и хотя какой-либо досуг, - откровенно писал Честняков Чуковскому. -[…] Приблизилась старость. И всё больше беспокоюсь о моих искусствах, на кои затрачена вся жизнь. Надеялся, рассуждал так: для народа, для страны важное, ценное. Как-то оно будет?" Он умер в июне 1961 года, в родительской избе - на той же самой деревянной лавке, на которой появился на свет. Мировое признание пришло к искусствам Ефима Васильевича Честнякова уже после того, как завершился его земной путь. Но история его на этом не заканчивается. Дорога от Кологрива к Шаблово идёт сквозь густую тайгу. В одном месте у обочины заросли словно расступаются, обнаруживая самодельный мосток из брёвнышек над ручьём. За мостком – поляна, а на поляне – большой дубовый крест и прислонённые к нему иконы. Это "Зелёный храм", место тайных богослужений православных христиан во времена атеистических гонений. Cчитается: когда большевики закрыли последнюю церковь в Кологривском районе, этот храм под открытым небом создал Честняков. Во всяком случае, то, что он тайно приходил сюда с крестьянами на молитвы, достоверно известно. "Нелегки духовные труды…И когда доходят подвигами до молитвы, то это уже величайший труд – превыше всех тяжёлых трудов наших…и творит такой труд чудеса, приближается к святому могуществу Божества…", - пишет художник в "Сказании о Стафии – Короле Тетеревином". И хлёстко так заключает:"А что называем молитвой на нашем языке, то это такая дешёвка, что нет и намёка на молитву". При всей своей кротости он был строг – и к себе, и к другим. "Ах, дети милые, молитесь К святому Господу Христу. Не исцелит ли Он, Спаситель, Мою печаль и маету. С гордынею своей мятежной Небрежен я в делах Твоих И стал во многом неприлежный, И что-то так совсем затих. О, научи творить святое, Служенью в жизненных судьбах, И воскреси моё былое, И укажи труды в избах […]" Несколько лет назад Костромская епархия Русской Православной Церкви Московского патриархата начала сбор материалов с целью возможной канонизации Честнякова. Основания для такой постановки вопроса имеются. Десятки свидетельств местных жителей о чудесных исцелениях от его руки и молитвы, а также после молитвы, обращённой к нему. Праведный, по сути, монашеский образ жизни… Конечно, с ортодоксальной точки зрения, кикиморы и домодедушки в картинах Честнякова – момент довольно сомнительный. Но, как бы там ни обернулось дело с официальной канонизацией, на родине его ведь уже и так почитают как святого. Идут на могилу в Илешево со своими просьбами, горестями и печалями. Как шли к нему в избу, когда он был жив. По воспоминаниям, на просьбы "полечить", "предсказать, что будет", Честняков реагировал довольно резко: "Я художник, а не доктор и не фельдшер…И не колдун! Мне картины писать надо… А тут, чего доброго, и в тюрьму загремишь". Но ведь –лечил. Травами, особым массажем. Стукнет по спине – и болезнь прошла. Недалеко от Шаблово он обнаружил бьющий из-под земли целебный источник и без лишней шумихи водил туда болящих. В дни памяти Честнякова и церковные праздникик "Ефимовому ключу" начинается настоящее паломничество (даже проблемы есть с некоторыми особо увлечёнными – спалили ведь старое Шаблово). И насчёт предсказаний деревенские жители охотно и много рассказывают. В самой живописи-то они не особо разбираются. А вот если тебе между делом иносказательно сообщают, когда вернётся родственник с войны или за кого ты выйдешь замуж - это, конечно, уже интереснее. Люди, которых Ефим Васильевич рисовал, уже будучи в зрелых летах, примечают: в их портретах то и дело встречаются указания на события, происходившие с ними затем в отдалённом будущем. Более того. Как ни странно, но факт остаётся фактом – Ефим Васильевич Честняков ведь и сейчас является здешним жителям. Во сне. Беседует с ними, порой поругает за неприглядный поступок, или что-то важное сообщит. Приснился однажды Наталье Завьяловой, трезвомыслящей сельской учительнице русского языка и литературы. "Директором будешь", - говорит. Та даже загрустила: а вдруг и правда директором школы назначат, какая тоска … А несколько лет спустя, когда она уже забыла про этот случай, Ефим снова явился ей во сне. "Будешь директором столько, сколько нужно, пока я тебя не отпущу", - строго так сказал Наталье. А потом велел: "Смотри!" И развернул перед ней живой сияющий мир с диковинными пейзажами и неоглядными далями. Такой, как видится на его картинах. И вскоре Наталью Завьялову вдруг поставили руководить музеем Ефима Васильевича Честнякова в Шаблово. Кому же уподобить этого странного живописца в разноцветных лаптях и с гармоникой наперевес? Итальянцу Франциску Ассизскому, который, как и Честняков, в своей поэзии напрямую обращается к "брату Солнцу" и "брату Луне" и проповедует птицам? Или китайцу Лао-цзы с его вселенской полнотой жизни и полным равноправием Неба, Земли и Человека? Или, может быть, святым старцам русской православной традиции? Серафиму Саровскому, который, преклонив колена, молится на камне среди глухого леса? И всё это будет верно, всё применимо к нему. К автору, о котором перешёптываются персонажи "Сказания о Стафии – Короле Тетеревином": "- Герой грядущего…ещё не нашего времени… - Как метеор… - Комета… - Не с Марса ли он? - "Ч"…Божья планета". Дожившие до нашего времени участники событий-спектаклей Честнякова или просто приходившие к нему со своими бедами - в восторге и полном непонимании, в невозможности объяснить, что с ними было. Эти люди, которым сейчас уже за 70, благодаря Ефиму Васильевичу как будто побывали в другой жизни. Той вечной вселенской жизнью наделены и нестареющие персонажи его картин. Они – как он сам. источник © Портал-Credo.Ru |
wikii.ru