Неизвестная “Троица” Рублева: исихастское изложение догматики |
|
Неизвестная “Троица” Рублева: исихастское изложение догматики |
Приглашение принять участие в такой серьезной по теме и значению конференции для меня, провинциального богослова, было столь же приятно, как и неожиданно, поэтому позвольте приписать приведшее к нему стечение обстоятельств действию, или по аристотелевско-паламитской терминологии, энергии самой Пресвятой Троицы, верным рабом Которой я себя ощущаю.
Многозначительны и числовые совпадения: шестое и девятое числа шестого месяца, которыми ограничены пределы конференции, год, сумма цифр которого составляет три, призваны подкрепить уверенность в том, что сложнейшая, неисчерпаемая тайна Св. Троицы в третьем (!) тысячелетии сразу и надолго попадает в центр богословского внимания.
Прошло ровным счетом шесть столетий с той поры, когда развернувшийся с полной силой движимый благодатью Св. Духа гений лучшего русского иконописца, каким является преп. Андрей, стал творить непревзойденные и совершенные по символической сути и художественному выражению образы сверхмирного бытия. Кульминацией этого творческого чуда стала икона Св. Троицы, созданная иноком именно Свято-Троицкой обители, основанной за несколько десятилетий до этого преподобным Сергием Радонежским.
Андрей, стал творить непревзойденные и совершенные по символической сути и художественному выражению образы сверхмирного бытия. Кульминацией этого творческого чуда стала икона Св. Троицы, созданная иноком именно Свято-Троицкой обители, основанной за несколько десятилетий до этого преподобным Сергием Радонежским.
Вряд ли кто-нибудь будет оспаривать, что само слово «Троица», так же как английское Trinity, является сокращением аутентичного Тройственная Единица (resp. triple unity). В качестве наиболее точного термина можно было в таком случае рекомендовать слово «Триединство». Конечно, П.Тиллих прав, когда вполне в духе святоотеческой традиции говорит, что проблема Троичности не есть проблема числа три. Не структурная необходимость, а Откровение приводит верующий разум к принятию триипостасности. Вместе с тем, Откровение обращено именно к структуре, точнее, к глубине разума. А ведь ее богосообразная трансцендентальность осуществляет прежде всего осмысление, в модусе троичности, цельности и полного бытия – и Самого-бытия (αυτο το ειναι Ареопагитик или esse ipsum августиновской традиции), и бытия тварного.
Вообще, истины единства и полноты, которые в западном богословском и философском мышлении, особенно после Гегеля и Шеллинга, объединяются в понятии Абсолюта (и в таком виде, между прочим, составляют основу онтологического аргумента), суть фундаментальные, исконные аксиомы, можно сказать, координаты человеческого мышления. Религии и философии язычества располагаются в области искаженного синтеза идей единства и полноты – от неединой, множественной полноты политеизма до единства пустоты буддизма и даосизма. Величественная беспомощность такого типа конструкций и есть отличительный признак того, что называется пантеизмом. Исключительной (по терминологии того же Тиллиха) монотеизм Ветхого Завета сделал акцент на Единстве и его несообщаемой человечеству трансцендентности, отождествив полноту с единством. Христианский синтез сформулирован в конце иоаннова гимна Логосу и в резонирующем с иоанновой традицией послании к Колоссянам: «в Нем обитала полнота Божества… и от полноты Его все мы приняли…». Послание к Ефесянам затем добавляет: πληρουσθε εν Πνευματι, откуда после идентификации Духа с Единством следует замыкание Троицы — от «полноты единства» Отца к «единству в полноте» Духа, которое и является прообразом соборности или Церкви.
Послание к Ефесянам затем добавляет: πληρουσθε εν Πνευματι, откуда после идентификации Духа с Единством следует замыкание Троицы — от «полноты единства» Отца к «единству в полноте» Духа, которое и является прообразом соборности или Церкви.
Для специалиста по религиозной философии должен быть очевиден полный типологический параллелизм изложенного обобщения христианской догматики и диалектической системы неоплатонизма. Поэтому можно смело считать последний спиритуалистической версией христианства. Основополагающий факт воплощения Логоса, т.е. вочеловечения Сына Божия создает принципиально непреодолимую границу между христианством и классическим неоплатонизмом, однако оставляет возможность его переосмысления, а затем и использования для оптимальной формулировки как Троичного догмата, так и теологемы обожения. Путь к такому осмыслению намечен в лосевской концепции двух меонов.
Крайние усилия западной богословской недиалектической мысли привели к синтезу индо-германского (языческого) и семитического (исключительно-монотеистического) типов экспликации общечеловеческой интуиции единства полноты (в русском прочтении: всеединства) в парадигме объединения Двух Третьим (что и составляет квазиересь Filioque).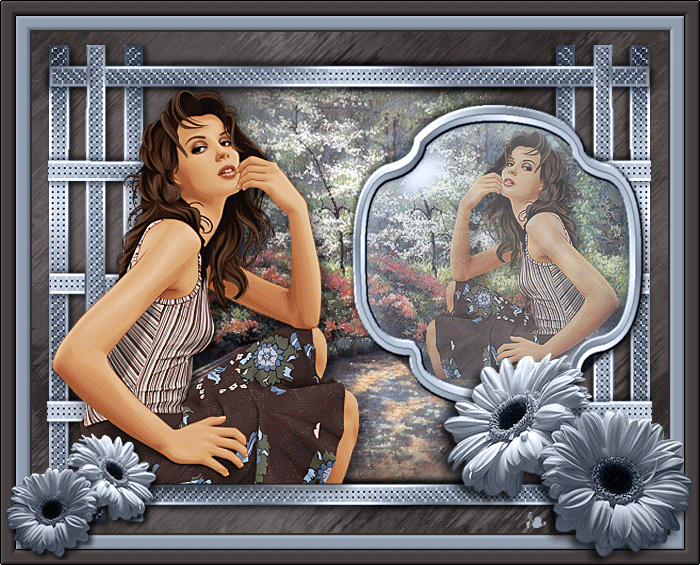 Диалектическое западное мышление потерпело поражение в философии тождества Гегеля-Шеллинга-Соловьева (один меон, а с ним безмерно перегруженная София).
Диалектическое западное мышление потерпело поражение в философии тождества Гегеля-Шеллинга-Соловьева (один меон, а с ним безмерно перегруженная София).
Пионерский же прорыв в направлении адекватного синтеза, осуществленный святым Григорием Паламой, был отчасти плохо расслышан за пределами Афона, отчасти подавлен растущей зависимостью Византии и угрозой ей и от Запада и от Востока. Исходной идеей моего анализа и явилась гипотеза о том, что наиболее возвышенные и глубокие интуиции византийской православной мысли XI-XIV вв. были восприняты и воплощены на Руси, но в форме не вербальной, а образной, т.е. в образе, с одной стороны, ангельским, т.е. монашеском, с другой стороны, художественном, иконописном.
Художественно-догматический строй Троицы Рублева – величайшей православной иконы – с одной стороны представляет доказательства исихастско-неоплатонический основы православной духовности Древней Руси, с другой – может быть адекватно интерпретирован исключительно с позиции последних. Ведь и сам исихазм, если отвлечься от его технической стороны, усилено акцентируемой некоторыми «феноменологами», есть ничто иное, как целожизненное переживание коммуникативной, «проодической» полноты Триединства.
Ведь и сам исихазм, если отвлечься от его технической стороны, усилено акцентируемой некоторыми «феноменологами», есть ничто иное, как целожизненное переживание коммуникативной, «проодической» полноты Триединства.
Я хорошо понимаю, что автор, осмелившийся защищать три выдвинутые здесь положения, должен особенно туго препоясать чресла, потому что ему будут противостоять три же эшелона обороны «традиционных» т.е. не свободных от восходящих к Августину навыков мышления, филиоквистических воззрений. Во-первых, возражать будут те, кто вообще подозрительно относится к исихазму, считая его изменой сотериологии Вселенских Соборов. Это, например, мой добрый друг отец Борис Левшенко. Во-вторых, возмутятся те энтузиасты исихазма, которые напрочь отрицают какие-либо его связи с платонизмом, например, только что упомянутый профессор С. Хоружий. Наконец, решительно отклонят предлагаемую концепцию высокоуважаемые мною богословы, готовые еще принять первые два пункта, но отвергающие возможность их усвоения в русской духовности XIV-XV столетий – и это, к примеру, опять-таки мой добрый друг о. Валентин Асмус. И я назвал только лучших людей в нашем современном богословии…
Валентин Асмус. И я назвал только лучших людей в нашем современном богословии…
Однако, как исторический скепсис исследователей культуры Древней Руси, так и охранительное благомыслие ряда видных отечественных догматистов и православных философов представляются нам неоправданными. Первые, думается, недостаточно учитывают глубину духовной и социальной катастрофы, разразившейся в православном мире в связи с близкими по времени событиями – Флорентийским собором и падением Константинополя. Последовавшая самоизоляция русского православия, сопровождаемая существенной деградацией среднего уровня духовности, особенно в условиях западных симпатий властных Иоанна III и Василия, образовала историческую пропасть, которая мешает адекватно оценить уровень мышления и созерцания, достигнутый у нас в первой половине XV века. Способствует такой аберрации и бесспорная скудость письменных источников, которые подтверждали бы интенсивность и утонченность русской религиозно-философской мысли того времени. Последнее обстоятельство, однако, давно получило удовлетворительное объяснение в трудах, например Д.С. Лихачева, Г.М. Прохорова или В.В. Бычкова, выявивших ориентацию русской выразительности прежде всего на визуальное, а не вербальное изложение. Икона Святой Троицы преп. Андрея как раз и являет собой превосходное подтверждение такого взгляда. Следует учесть и огромное число переводов с греческого – как св. отцов 1-го тысячелетия, так и современных византийских писателей, – наполнявших библиотеки лучших русских монастырей и княжеских дворов с середины XIV столетия. Многочисленные паломничества русских в Грецию и посольства греков в Москву также благоприятствовали усвоению здесь новейших и вершинных достижений Византии в богословии и аскетике.
Последнее обстоятельство, однако, давно получило удовлетворительное объяснение в трудах, например Д.С. Лихачева, Г.М. Прохорова или В.В. Бычкова, выявивших ориентацию русской выразительности прежде всего на визуальное, а не вербальное изложение. Икона Святой Троицы преп. Андрея как раз и являет собой превосходное подтверждение такого взгляда. Следует учесть и огромное число переводов с греческого – как св. отцов 1-го тысячелетия, так и современных византийских писателей, – наполнявших библиотеки лучших русских монастырей и княжеских дворов с середины XIV столетия. Многочисленные паломничества русских в Грецию и посольства греков в Москву также благоприятствовали усвоению здесь новейших и вершинных достижений Византии в богословии и аскетике.
К последним относится, прежде всего, учение свт. Григория Паламы о нетварных божественных энергиях, основанное как на углубленной разработке недостаточно развитой в святоотеческой литературе пневматологии, так и на духовном опыте афонских подвижников-исихастов. Богословская система солунского святителя после многолетней напряженной борьбы было утверждена авторитетом Константинопольских соборов 1341 и 1351 года, и в последней трети XIV века начинается рецепция исихазма в центре русской православной духовности – монастыре преподобного Сергия. К концу 20-х годов XV века – времени создания иконы «Св. Троицы» – в быстро слабеющий Византии авторитет паламизма, при попустительстве императорской власти, снова ставится под сомнение. Исихазм, ведь, несовместим с Filioque, принятие которого является обязательным условием финансовой и военной помощи со стороны католической Церкви. Ни о каком обоживающем действии Святого Духа не может идти речи в системе, в которой Ему отказано в ипостасной самостоятельности. Человеческая природа Христа без полноты этого действия на нее Духа (в Воплощении и Крещении) отрывается от божественной, и вторая Ипостась сдвигается в сторону первой, нарушая равновесие внутри Троицы, и благодатную связь с тварным миром. А это удовлетворяет и обособляющееся от Бога человечество Запада, и обособляющееся от человечества Божество (Аллах) мусульманского Востока.
Богословская система солунского святителя после многолетней напряженной борьбы было утверждена авторитетом Константинопольских соборов 1341 и 1351 года, и в последней трети XIV века начинается рецепция исихазма в центре русской православной духовности – монастыре преподобного Сергия. К концу 20-х годов XV века – времени создания иконы «Св. Троицы» – в быстро слабеющий Византии авторитет паламизма, при попустительстве императорской власти, снова ставится под сомнение. Исихазм, ведь, несовместим с Filioque, принятие которого является обязательным условием финансовой и военной помощи со стороны католической Церкви. Ни о каком обоживающем действии Святого Духа не может идти речи в системе, в которой Ему отказано в ипостасной самостоятельности. Человеческая природа Христа без полноты этого действия на нее Духа (в Воплощении и Крещении) отрывается от божественной, и вторая Ипостась сдвигается в сторону первой, нарушая равновесие внутри Троицы, и благодатную связь с тварным миром. А это удовлетворяет и обособляющееся от Бога человечество Запада, и обособляющееся от человечества Божество (Аллах) мусульманского Востока.
Таким образом, вырисовывается задача, стоящая перед русским иконописцем в преддверии объединительного с Римом собора и последнего натиска на Константинополь османов (большинство исследователей принимают 1425-27 как годы создания «Троицы»).Она заключается в возвышении, со всей возможной художественной силой, ипостаси Святого Духа в единосущном равенстве Трех Лиц, и, тем самым, подтверждении истины (и описании методики) исихастского умного делания, которое опровергло бы противников не словесной аргументацией, а необоримостью духовной красоты.
Необходимо, однако, дать еще несколько пояснений относительно модели неоплатонической диалектики, которая, по нашему убеждению, сыграла решающую роль в грандиозном творческом успехе иконописца. Речь идет о том гениальном упрощении платонизма, следующим из библейского учения о Едином, которое намечено в четвертом Евангелии, развито в «Ареопагитиках», и легло в основу паламизма. Неоплатонизм, наименее натуралистическое из эллинских учений, не смог вполне избавиться от этого имманентного язычеству порока даже в самой утонченной своей версии, данной Проклом. Последний со всей отчетливостью списывает диалектическую схему пребывания (μονη), выхода во вне (προοδος) и возвращения к себе (επιστροφη) и получаемую с ее помощью структуру сущего – от Сверхсущего «Одного» (Εν) до неисчислимого (хотя и конечного) множества вещей и явлений. Прокл остановился в полушаге от истины: преодолев омиусианство (Ум ниже Единого) и филиоквизм (Душа происходит от Ума) Плотина, он не решился сделать «последний транс» (Вышеславцев) – отождествить первую триаду с самой диалектической схемой. Должно быть, это и в самом деле нелегкий шаг, если нужно было ждать 1500 лет до первого неуклюжего движения Гегеля, а потом еще почти 100 — до карсавинской «двойной спирали»(Хоружий). (*)
Последний со всей отчетливостью списывает диалектическую схему пребывания (μονη), выхода во вне (προοδος) и возвращения к себе (επιστροφη) и получаемую с ее помощью структуру сущего – от Сверхсущего «Одного» (Εν) до неисчислимого (хотя и конечного) множества вещей и явлений. Прокл остановился в полушаге от истины: преодолев омиусианство (Ум ниже Единого) и филиоквизм (Душа происходит от Ума) Плотина, он не решился сделать «последний транс» (Вышеславцев) – отождествить первую триаду с самой диалектической схемой. Должно быть, это и в самом деле нелегкий шаг, если нужно было ждать 1500 лет до первого неуклюжего движения Гегеля, а потом еще почти 100 — до карсавинской «двойной спирали»(Хоружий). (*)
Диалектика при таком диалектическом «колесовании» ломает сама себя и осуществляет идеал феноменологии – полное преодоление «естественной установки» (попросту, язычества). Высвобождаемые невероятные творческие возможности (ведь изображаемое, изображение и изобразительность – одно и то же!) осознаны были уже в самой Византии конца XIV века, свидетельством чему является изумительная икона Св. Троицы из афинского музея. Исихастская идея именно этого образа была доведена до совершенства преподобным Андреем. Знаменательно, что пропорции его и афинской икон, т.е. отношение высоты к ширине, совпадают с точностью до 0,02. Интересно еще, что – прямо-таки в духе троичной идеи – существует и третья версия данного иконографического извода – эрмитажная, гораздо более приземленная по сравнению с названными, — и больше ничего подобного (по крайней мере, в темпере) в мире нет. Ничего и не может быть – русское прочтение и изложение Троичной истины в рублевском образе есть ее окончательный, «нулевой» и далее не «децентрируемый» (Ф. Гиренок) вид.
Троицы из афинского музея. Исихастская идея именно этого образа была доведена до совершенства преподобным Андреем. Знаменательно, что пропорции его и афинской икон, т.е. отношение высоты к ширине, совпадают с точностью до 0,02. Интересно еще, что – прямо-таки в духе троичной идеи – существует и третья версия данного иконографического извода – эрмитажная, гораздо более приземленная по сравнению с названными, — и больше ничего подобного (по крайней мере, в темпере) в мире нет. Ничего и не может быть – русское прочтение и изложение Троичной истины в рублевском образе есть ее окончательный, «нулевой» и далее не «децентрируемый» (Ф. Гиренок) вид.
Почти идеальная сфера, в которую вписаны три Ангела, и которую не упомянул, кажется, еще ни один исследователь иконы (все видят круг на ее плоскости и игнорируют окружность, описанную вокруг вертикальной оси), является идеальным символом Триединства, как неоплатонического, так и христианского. А.Ф. Лосев в «Истории античной эстетики» (VIII,(2),141) утверждает, что «для Прокла, как и для всей античной мысли, эти геометрические фигуры круга и шара являются первичнейшим, простейшим, элементарнейшим и необходимейшим образом всякой Триады вообще… Или можно сказать еще и так: вещь, данная вне всякой мысли, и потому неопределенная, став предметом мысли и тем самым получив свою существенную структуру, вернулась сама к себе, т. е. с полным сохранением себя в самостоятельном и нетронутом виде и в то же самое время с выявлением своей же собственной структуры, которая таится в ней неопределенно и внемысленно.»
е. с полным сохранением себя в самостоятельном и нетронутом виде и в то же самое время с выявлением своей же собственной структуры, которая таится в ней неопределенно и внемысленно.»
Если на место описываемой Лосевым «вещи» (в подцензурных условиях великий мыслитель не мог сказать всего, что хотел) мы подставим Само Единое, то как раз и получим православную формулу троичного Единства:
Её-то и написал наш святой богопросвещенный художник, только не словами, а красками.
Исходная истина христианской догматики: «Бог есть Дух» становится в нашей (т.е. Рублева) модели продуктивной тавтологией: «Единое есть Единство». Очевидно, что единое рождает и свой смысл, но единство, хотя и осуществляется через свой смысл, исходит не от него, а от самой единицы (будучи таковой, она и единит).
Для подтверждения выявленной (между прочим, как побочный продукт при рассмотрении проблемы Filioque) концепции главной русской иконы был предпринят детальный анализ выразительных средств, примененных иконописцем: композиции, рисунка, колорита, в результате которого было обнаружено значительное количество ускользавших до сих пор от внимания исследователей деталей, символов и шифров. Те же, которые ввиду абсолютной неконцептуальности всех предшествующих толкований иконы, получали произвольное и зачастую противоречивое объяснение (позы Ангелов, жесты, пресловутый клавус…), полностью и естественно вписались в схему исихастско-неоплатонической интерпретации. Изложение наших наблюдений заняло бы, однако, слишком много времени. Они опубликованы в первом номере журнала Казанской Духовной семинарии «Православный собеседник» (2000 год) к которому я и отсылаю всех интересующихся разгадкой тайны дивного Образа, – смею надеяться, окончательной.
Те же, которые ввиду абсолютной неконцептуальности всех предшествующих толкований иконы, получали произвольное и зачастую противоречивое объяснение (позы Ангелов, жесты, пресловутый клавус…), полностью и естественно вписались в схему исихастско-неоплатонической интерпретации. Изложение наших наблюдений заняло бы, однако, слишком много времени. Они опубликованы в первом номере журнала Казанской Духовной семинарии «Православный собеседник» (2000 год) к которому я и отсылаю всех интересующихся разгадкой тайны дивного Образа, – смею надеяться, окончательной.
Ведь если три до сих пор обсуждавшиеся варианта идентификации Лиц – «алпатовский» (1-2-3), «вздорновский» (2-1-3) и «голубцовский» (3-1-2) – именно в силу своей бездоказательности и неконцептуальности являются конкурирующими, то наш, будучи основан на концепции исихастской духовности, аутентичной школе преподобного Сергия, «снимает» предыдущие, делая их просто ненужными, – или в лучшем случае, оставляя за ними достоинство психологических подпорок, молока за неспособностью к твердой пище.
Может, конечно, возникнуть впечатление, что не нужна и она. Однако, это впечатление обманчиво. Дух Образа откроется ведь только тому, кто поймет, что это Образ Духа (и, между прочим, праздника Сошествия Святого Духа). Если наивную психологизацию Иконы светскими искусствоведами можно объяснить их богословским невежеством, то низкий интерпретационный уровень церковных исследователей, видимо, имеет причиной избыточный трепет перед тайной Св. Троицы. Трепет сей, конечно, благотворен, но лишь до тех пор, пока не переходит в ступор у тех, кто, по меткому выражению Китса «…stare at what is most divine, /with brainless idiotism, o`erwise phlegm»). В отношении ряда других икон Рублева (беспрецедентный белый цвет пещеры в Воскрешении Лазаря» или наоборот, почти черный мандорлы в «Преображении») вопрос о задаче, которую решал в них Преподобный, был поставлен, а ответ – найден проницательными исследователями именно в исихастском строе мышления св. Андрея. Полная неотмирность «Троицы», разреженный горный воздух ее трансцендентной высоты просто испугали ученых и богословов – примерно так же, как немногие могут выдержать больше двух-трех страниц «Парменида», «Первооснов теологии» или «Божественных имен». Но в случае нашей иконы невероятная ее красота еще и провоцировала неподготовленного «читателя» на недифференцированное любование и эмоциональные излияния. Икона, однако, содержит столько взывающих к объяснению символов и шифров, что отказ от проникновения в творческий замысел великого иконописца выглядит как asylum ignorantiae или еще хуже – предательство в отношении особенно Второго и Третьего Ангелов (смысла и духа), хотя и вполне понятен как благоговение перед апофатичностью Первого.
Но в случае нашей иконы невероятная ее красота еще и провоцировала неподготовленного «читателя» на недифференцированное любование и эмоциональные излияния. Икона, однако, содержит столько взывающих к объяснению символов и шифров, что отказ от проникновения в творческий замысел великого иконописца выглядит как asylum ignorantiae или еще хуже – предательство в отношении особенно Второго и Третьего Ангелов (смысла и духа), хотя и вполне понятен как благоговение перед апофатичностью Первого.
Упомянув выше афинскую икону Святой Троицы начала XV века, я не назвал ее главного отличия от рублевской «Троицы». При всей своей мягкой лиричности, красочной «напевности линий» (Бычков) одним словом: «душевности» в лучшем смысле, русская Троица значительно отрешеннее, «трезвеннее» византийского образца главным образом из-за отсутствия на ней собственно гостеприимных Авраама и Сарры. Это похоже на феноменологическую редукцию: выведя праотцев из пространства иконы, преподобный Андрей придает содержанию Образа окончательно трансцендентный характер. А праотец (и вместе с ним мы, русские Авраамы) стоит перед Богом-Троицей и созерцает Его глазами веры (Рим. 4, 3-20) и бесстрастного фронезиса (Флп. 2, 5).
А праотец (и вместе с ним мы, русские Авраамы) стоит перед Богом-Троицей и созерцает Его глазами веры (Рим. 4, 3-20) и бесстрастного фронезиса (Флп. 2, 5).
А теперь сделаем усилие воображения, и зайдем опять внутрь иконы, встанем, если не вместе с Моисеем на вершину нависшей над Сыном Божьим скалы, то рядом с Авраамом под Мамврийским деревом Жизни. Прямо перед собой мы увидим, рядом с Ангелом Третьей Ипостаси, наверное, преподобного Серафима Саровского, а с ним и всю духоносную Русь. Слева естественно окажется христоцентричный Запад, справа – апофатический Восток. Правда, Святой Дух обращен к нам при этом спиной – но ведь и Моисей удостоился видеть лишь «задняя» после того, как его народ сотворил себе кумира. До этого (Исх. 33, 11) он говорил с Богом «лицом к Лицу».
(*) Для Лосева (БИК, 583) такое отождествление является логическим обращением связи между платонизмом и аристотелизмом (resp. Диалектикой и феноменологией): «эманационный» процесс есть диалектически понятая энергия, а иерархия Триады – энергетически понятая диалектика.