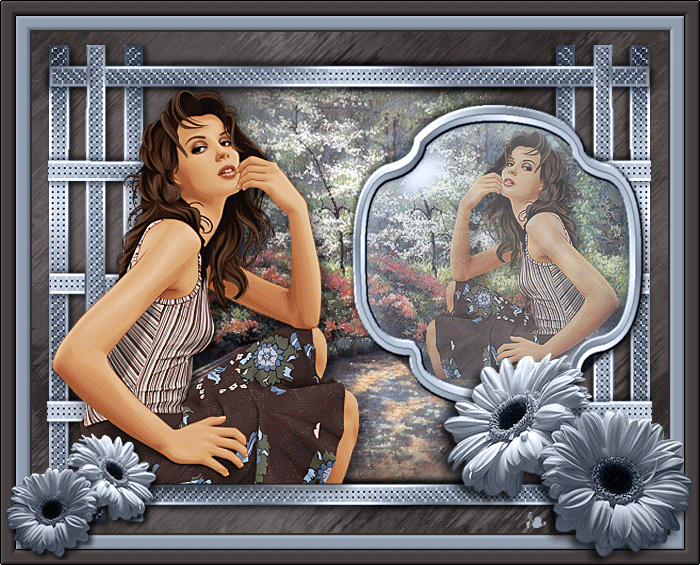|
:
:
|
⇐ 19 35 ⇒ – Я не знаю. Может, ничего. А может, и есть что-то. Во всяком случае – не то, что к югу от границы91.
Так как ты звался, гордый-Ворон-там-где-Ночь-царит-всегда?
Догадайся без труда.
Всего-то дела – перевести обе половинки заголовка романа в «общечеловеческую» символику. И назвать эти вещи их суровыми мексикано-сибирскими именами. Получаем:
«К югу от границы» + «На запад от солнца» =
За любовью, что сам же
сгубил, Бредёшь,
пока не свалишься замертво.
* * *
– Главное – называть все вещи своими именами… – пробормотал я рассеянно и повернул ключ зажигания.
– Чем-чем? – переспросила она, пристегивая ремень. Я посмотрел на нее и вздохнул.
– Слово такое японское, «ими-нами». «Волны смысла» означает. «Ими» – смысл, «нами» – волна… Хотя правильнее, конечно, «ими-но нами».
– Ими, но нами?
В ее голосе звякнула тревожная нотка.
– Ну… Если хочешь, можно и так.
– А! – осенило ее. – Именно нами!
Я одобрительно хмыкнул, и моя старенькая «субару» наконец тронулась с места.
* * *
Она дарит тебе обманку. Фантом. Вашу с ней любимую песню, которой не было. Ты уже большой мальчик и прекрасно знаешь, о чем эта песня. О том, чего делать нельзя.
Нормальный такой подарок от уважающего себя призрака.
Но ты, конечно, об этом не думаешь. Ты вообще ни о чем не думаешь, ты проскакиваешь на голубой и не останавливаешься на красный[40], красное манит тебя, как быка, когда ты мчишь с этим призраком – всего, что ты искал двадцать лет, – по хайвэю сквозь непроглядный ночной ливень на свою дачу.
И когда этот Призрак затевает с тобою свой танец, тебе даже не приходит в голову, что начался древнейший ритуал, в котором ты – и жертва, и главное действующее лицо:
Она велит тебе снять одежду, ты раздеваешься и удивляешься, почему не разделась она.
Двадцать лет назад ты раздевал Идзуми, оставаясь одетым.
Ты желаешь ее, но она тянет время: «Не хочу торопиться. Я так долго этого ждала».
Она ждала этого двадцать лет. С тех пор, как она умоляла тебя не спешить, но ты не слушал.
Когда ты уже в ней, она выворачивает наизнанку «самый счастливый день» твоей юности, и твоя голова заполняется кошмарными видениями. Ты в ней, но она слишком далеко от тебя, в совершенно ином мире, где тебя нет.
Двадцать лет назад ты признавал, что бросишь ее, даже если она станет твоей, и все равно ее добивался.
Все когда-нибудь возвращается в свое начало. Туда, где черное опять будет белым, а красное – голубым. Вода с легким привкусом воздуха. Все, о чем ты мечтал. Она всасывает тебя, точно вакуум, с такой силой, что ты наконец понимаешь: все эти двадцать лет она хотела настичь тебя и прибрать к рукам навсегда.
Но лишь теперь ты полностью в ее власти.
Она зовет тебя за собой.
И ты обещаешь, что уйдешь вместе с нею.
– Выслушай меня, Хадзимэ, – наконец заговорила Симамото. – Внимательно выслушай, это очень важно. Я уже тебе как-то говорила: жизнь с серединки на половинку – не по мне. Ты можешь получить все или ничего… Я не буду являться по твоему зову, когда тебе захочется. Пойми. А если тебя это не устраивает и ты не хочешь, чтобы я опять ушла, бери меня всю целиком, со всем моим «наследством». Но тогда и ты нужен мне весь, целиком. Понимаешь, что это значит?
– Понимаю, – ответил я.
– И все-таки хочешь, чтоб мы были вместе?
– Это уже решено.
И еще раз, чуть ниже:
– Погоди, а жена как же? Дочки? Ведь ты их любишь, они тебе очень дороги…
– Конечно, люблю. Очень. И забочусь о них. Ты права. И все-таки чего-то не хватает… Откуда этот вечный голод и жажда, которые ни жена, ни дети утолить не способны? Это может только один человек в целом мире. Ты. Только с тобой я могу насытить свой голод. Теперь я понял, какой голод, какую жажду терпел все эти годы. И обратно мне хода нет.
И, наконец, в третий раз:
– Но если бы мы не встретились, ты так и жил бы дальше – без хлопот, без сомнений. азве нет?
– Может, и так. Но мы встретились, и обратного пути уже нет. Помнишь, ты как-то сказала: что было, того не вернешь. Только вперед. Что будет – то будет. Главное, что мы будем вместе. И вдвоем начнем все сначала.
Вот оно. Свершилось.
Ты ведь не просто «подписку дал».
Ты сам разрешил ей забрать тебя отсюда. Так не удивляйся тому, что с тобой будет дальше.
А дальше, к рассвету, она исчезнет. Хотя – это ты подумаешь, что исчезнет. Ей некуда исчезать. На этом свете ее уже три года как нет. Вспомни похоронную открытку, что прислала тебе Идзуми из Нагои. Якобы о смерти ее двоюродной сестры. Это ты решил, что сестры. И даже не задумался, почему соседские дети боятся заглядывать самой Идзуми в лицо.
Да потому что у нее нет лица[42].
Красная Идзуми, которую ты бросил, умерла в Нагое три года назад. И пришла к тебе в образе той единственной, несуществующей, к которой ты стремился всю жизнь и ради которой сегодня отрекся от всего, что еще держало тебя в этом мире.
Трижды отрекся. И никто тебя за язык не тянул.
Как тот паренек на чужих саночках, забывший слова молитвы. Трижды вокруг катка – и поминай как звали. И спасать тебя некому. Ты сам от всего отказался. Асталависта, бэби. Down Mexico way.
Еще несколько дней – и последние силы покидают тебя. Как будто кто-то подкрался сзади без единого звука и выключил тебя из розетки. Ты вспоминаешь ребенка, которого ни разу не видел. Ее единственного ребенка от единственного мужчины. ебенка, чей пепел растворился в реке, которая растворилась в море. А потом, испарившись, пролился дождем – и снова вернулся в море. Ты знаешь: он должен быть где-то здесь. Погружаешься в воду и пытаешься разглядеть его в бескрайней голубизне. Ты видишь так похожих на тебя рыб, которых не видит больше никто и которым неведомо, какой очередной ливень хлещет там, наверху, в мире плоти и крови, где и шагу нельзя ступить, чтоб не сделать кому-нибудь больно. В черно-белом мире, куда уже нет никакого желания возвращаться.
Ты ложишься грудью на дно, и кто-то сзади тихонько кладет тебе руку на спину. Тому, в ком больше нет воздуха, хватит и прикосновения. Легка десница твоего командора.
* * *
Цветовая раскладка японских светофоров – «красный, желтый, голубой». В древности японцы не разделяли синего, голубого и зеленого, называя их общим словом «аой» – что-то вроде «цвета морской волны». В букете прочих сюжетно-цветовых линий – именно переключение светофоров на улицах несет в «Юге» громадную смысловую нагрузку. После каждого появления Голубого Призрака где-нибудь меняется светофор – и мы встречаемся с Красным Призраком, как и наоборот.
Так, в финале, уже после роковой ночи и «исчезновения» Симамото, мы читаем:
Я стоял, прислонившись к светофору, и смотрел под ноги. Светофор переключился с зеленого (= голубого) на красный, потом снова загорелся зеленый…
Наконец я поднял глаза и увидел перед собой лицо Идзуми. Она сидела в такси как раз напротив и смотрела на меня из окна с заднего сиденья.
Загорелся зеленый (= голубой), такси тронулось с места. В лице Идзуми ничто не дрогнуло до самого конца. Я стоял, парализованный, и наблюдал, как такси растворяется в потоке машин.
Но что особенно важно: слова «желтый» мы в повести не встречаем ни разу.
Желтый – цвет ожидания. Цвет сомнения и раздумья: а стоит ли вообще переходить? Цвет возможности двинуться в какую-то третью сторону. Но в повести о «синдзю» – классическом самоубийстве влюбленных – никакого третьего не дано. Тут уже или – или. Око за око. Голубым по красному, красным по голубому.
«Завтра начинаю новую жизнь», – отвечаешь ты собственной жене. Последнее, что вообще произносишь. Но говоришь не с ней. Ей нет в тебе места.
Ты бы и рад. Ты ведь честно пытался выбрать то, что сам считал правильным. Годами старался понять, где в тебе зло, а где добродетель. И где она, твоя личная установка, которая, даст бог, включится и расставит все на места…
Увы! Ей нет места в тебе. У твоего светофора только два цвета.
– Уходишь или нет? – требует ответа Юкико.
– Остаешься или нет? – вторит ей Призрак.
И ничего посередине. Никакой возможности для маневра. Тебя выкидывает наружу, как медузу из океана. Ты корчишься на песке, и клетки твоей кожи глотают пустой смертоносный воздух.
Там, откуда ты родом, нет ни добра, ни зла. Там, в твоем море, есть только ты сам. Ни во что не окрашенный, прозрачный, призрачно-голубой.
Лишь когда тебя выкинуло из воды, ты принял форму этого мира – и начал вызывать в ком-то ненависть, а в ком-то любовь. Кого-то ранить и убивать, а кого-то исцелять и возвращать с того света. Получать с одной стороны ласки да поцелуи, а с другой – пинки да подзатыльники. Как только ты обрел плоть и кровь, ты уже не можешь оставаться собой. Ты всегда будешь для них хорошим или плохим. Не потому, что желаешь того сам. А потому, что они всегда будут хотеть твоих плоти и крови, пока ты дышишь одним с ними воздухом.
Да, ты еще здесь, хотя дышать этим воздухом все труднее. Ты уже не представляешь, чего захотеть так, чтобы это кого-нибудь не поранило. Слишком много чужих желаний, которые не совпадают с твоими. Слишком много воздуха в мире, где больше нет никаких границ, и эта война не кончится никогда. Слишком много красного – и слишком мало голубого, чтобы еще чего-нибудь пожелать.
– Про море – забыть … – повторяешь ты, словно мантру. – Эта штука давно уже канула в прошлое.
Но отними у тебя твое море – и от самого желания быть остается лишь мокрый розовый след на голубоватом песке.
Так устроено. Дождь идет – цветы оживают, нет дождя – цветы вянут. Мошек и жуков пожирают ящерицы, ящериц склевывают птицы. Исчезают поколения, на их место приходят другие. Вышедшие из моря превращаются в прах, испаряются в небесах, выпадают на землю дождем – и снова уходят в море. Таков порядок. Каждый живет по-своему и по-своему умирает, не оставляя на земле ни малейшего смысла: там уже никто никого не обидит и не будет обижен никем.
Неужели и правда после нас всегда остается пустыня? Пустыня и больше ничего?
– Ну, чего ревёшь? Не бойся ничего.
– Я пробую… Не получается.
– Почему?
– Потому что там ничего не-е-ет!
Интервью Харуки Мураками
журналу «Обзор современной прозы»
Нью-Йорк, 1995
Беседовали:
Синда Грегори, Тосифуми Мияваки и Лэрри Маккафери
– Повлиял ли на ваше творчество джаз?
– Подсознательно. Джаз – это хобби, не больше. Но я действительно слушал джаз по десять часов в день несколько лет подряд, так что именно эта музыка впиталась в меня очень глубоко – ее ритм, импровизация, звук, стиль. Собственно, работа в джаз-клубе и привела меня к писательству.
До этого момента я был по уши погружен в западную культуру – наверное, лет с десяти или двенадцати. Не только в джаз – и в Элвиса, и в Воннегута… Думаю, так вышло из-за желания побунтовать против отца (он был учителем японской литературы) и прочих японских ортодоксов. В шестнадцать я бросил читать японскую литературу и взялся за русских и французов – Достоевского, Стендаля и Бальзака в переводах. А потом за четыре года старших классов освоил английский и начал читать американские книги – подержанные «покеты» из лавок букинистов. Читая американские романы, я мог убегать из своего одиночества в совершенно иной мир. Поначалу я ощущал себя в них, как на Марсе, но постепенно освоился, и стало очень уютно…
Но в тот вечер, увидев, как плачут эти черные американские парни, я вдруг осознал: как бы сильно я ни любил эту западную культуру – для этих солдат она значила куда больше, чем когда-либо сможет значить для меня.
– Американские постмодернисты-шестидесятники – Томас Пинчон, например, и многие другие – также испытывали сильное влияние джаза. Особенно по части импровизации. Считаете ли вы свою прозу импровизом?
– Для меня важнее ритм, чем импровизация. Когда я пишу, я думаю прежде всего о ритме. It don’t mean a thing, if it ain’t got that swing.
– Часто ли вы начинаете писать произведение с его будущего начала? И всегда ли знаете, куда оно вас заведет?
– Нет, не часто. Обычно я начинаю какую-нибудь историю, не представляя, что там будет дальше. Поэтому я просто пишу главу, потом другую и стараюсь продолжать в том же духе. Я не знаю, что должно случиться впереди, это приходит автоматически[45].
– В первой сцене «Норвежского леса» герой сидит в кресле самолета, и все дальнейшие события романа – его воспоминания в воздухе. То есть, видимо, писать вы начинали не с этой сцены?
– Да, начинал я не со сцены в самолете, а со старого наброска о светлячках.
– Несколько других ваших романов также выросли из коротких рассказов. Когда вы дописали эти рассказы, казалось ли вам, будто чего-то не хватает, что они нуждаются в продолжении? Или прошло время, вы оглянулись на такой-то рассказ и подумали: «Хм-м, пожалуй, теперь я смог бы сделать из этого материала кое-что посолиднее»?
– Для понимания того, что какой-то рассказ не закончен, мне требуется три-четыре года, а иногда и лет шесть-семь. Только уяснив это окончательно, я сажусь и перерабатываю его в более крупную версию. Хотя не все мои романы родились из рассказов.
– Да, но прошло несколько лет – и вы сели писать его «сиквел» «Дэнс, дэнс, дэнс». Вы предполагали, что это случится, когда заканчивали «Охоту», или на тот момент считали ее завершенной?
– Заканчивая «Охоту», я не думал ни о каком продолжении. Мне казалось, на этом всё. Но прошло четыре года, потом пять или семь лет – и в голове забрезжил вопрос: «А как там Человек-Овца?» Я понимал, что он для меня – очень важная фигура. Захотелось узнать побольше о том, какую роль он во мне играет. И потому я засел за «Дэнс».
– В «Стране Чудес без тормозов» вы представили очень интересную версию детектива в стиле «хардбойлд». Что именно вас привлекает в таком стиле?
– Достоверность. Но на самом деле я не собирался сочинять лихо закрученный детектив. Я всего лишь хотел использовать эту структуру. Меня вообще очень привлекают структуры. Я часто использую и другие поп-структуры – скажем, научной фантастики, «лав-стори» или «дамского романа». |

 Чтобы только отключиться от давно опустевшей реальности – и услышать все так же, как оно было четверть века назад. Ты все глубже проваливаешься в зрачок черной птицы по имени Никогда.
Чтобы только отключиться от давно опустевшей реальности – и услышать все так же, как оно было четверть века назад. Ты все глубже проваливаешься в зрачок черной птицы по имени Никогда.
 Я постоянно об этом думал, пока тебя не было. И решил… Обратной дороги нет.
Я постоянно об этом думал, пока тебя не было. И решил… Обратной дороги нет. Если бы только так – тогда, возможно, у тебя еще были бы какие-то шансы. Тогда, может быть, твоя верная Юкико еще спасла бы тебя, как Герда, пробравшись сквозь все круги ада к «самому правильному зеркалу мира». Но ты – согласился. Своими руками поджег этот чертов бикфордов шнур. И время пошло[41].
Если бы только так – тогда, возможно, у тебя еще были бы какие-то шансы. Тогда, может быть, твоя верная Юкико еще спасла бы тебя, как Герда, пробравшись сквозь все круги ада к «самому правильному зеркалу мира». Но ты – согласился. Своими руками поджег этот чертов бикфордов шнур. И время пошло[41].

 Машина остановилась на красный свет, нас разделяло не больше метра… «Ее дети боятся…» – вспомнились слова однокашника… На ее лице не было ни малейших признаков того, что мы называем выражением. На ум пришло сравнение с комнатой, из которой вынесли всю мебель, до последней табуретки. И это бесчувственное, опустошенное лицо, напомнившее мне морское дно, мертвое и безмолвное, смотрело на меня не отрываясь… Ничего не соображая, я почти непроизвольно вытянул руку и, коснувшись стекла, за которым сидела Идзуми, погладил его кончиками пальцев… Но Идзуми даже не шевельнулась, не моргнула ни разу. А может, она умерла? Нет, жива. Она живет в этом застывшем беззвучном мире за стеклом. На ее неподвижных губах застыло небытие, без конца и без начала.
Машина остановилась на красный свет, нас разделяло не больше метра… «Ее дети боятся…» – вспомнились слова однокашника… На ее лице не было ни малейших признаков того, что мы называем выражением. На ум пришло сравнение с комнатой, из которой вынесли всю мебель, до последней табуретки. И это бесчувственное, опустошенное лицо, напомнившее мне морское дно, мертвое и безмолвное, смотрело на меня не отрываясь… Ничего не соображая, я почти непроизвольно вытянул руку и, коснувшись стекла, за которым сидела Идзуми, погладил его кончиками пальцев… Но Идзуми даже не шевельнулась, не моргнула ни разу. А может, она умерла? Нет, жива. Она живет в этом застывшем беззвучном мире за стеклом. На ее неподвижных губах застыло небытие, без конца и без начала. Как будто такого цвета в принципе не существует. В том самом принципе, на котором Мураками и строит свою красно-голубую эстетику. «Да», которое меняется в «Нет». И «Нет», которое переключается в «Да». Сразу, без переходов.
Как будто такого цвета в принципе не существует. В том самом принципе, на котором Мураками и строит свою красно-голубую эстетику. «Да», которое меняется в «Нет». И «Нет», которое переключается в «Да». Сразу, без переходов.


 Однажды из-за стойки своего бара я увидел, как черные американские солдаты плакали от тоски по родине.
Однажды из-за стойки своего бара я увидел, как черные американские солдаты плакали от тоски по родине. Вот почему я и начал писать.
Вот почему я и начал писать. Весь «Норвежский лес» я писал как продолжение этой коротенькой истории, и это позволило мне самому разузнать, что случилось дальше с каждым из шести ее героев. Трое из них умирают, трое остаются в живых[46], но тогда я и сам не знал, кто умрет, а кто выживет. Одно из моих главных удовольствий – писать и в процессе узнавать, что случилось дальше. Без этого удовольствия писательство не имело бы смысла.
Весь «Норвежский лес» я писал как продолжение этой коротенькой истории, и это позволило мне самому разузнать, что случилось дальше с каждым из шести ее героев. Трое из них умирают, трое остаются в живых[46], но тогда я и сам не знал, кто умрет, а кто выживет. Одно из моих главных удовольствий – писать и в процессе узнавать, что случилось дальше. Без этого удовольствия писательство не имело бы смысла. Ту же «Охоту на овец» я сразу задумывал как роман.
Ту же «Охоту на овец» я сразу задумывал как роман.