Триипостасность как антропологическая парадигма (проблема конфессионального типа). |
|
Триипостасность как антропологическая парадигма (проблема конфессионального типа). |
4 ноября исполнилось 1550 лет с того счастливого дня, когда, после затянувшихся споров, запертые в притворе мученицы Евфимии три римских легата и несколько византийских епископов вышли к обрадованному собору с текстом, содержащим великую халкидонскую формулу. Большей высоты отношении христианских Востока и Запада с той благословенной поры но достигали. Понятна и глубинная причина подобного единомыслия – ведь речь шла о самом существовании христианства.
Центром и основным содержанием христианского исповедания является личность Богочеловека Иисуса Христа и Его спасительное дело в пораженном грехом человечестве. В этом согласны все основные направления христианства, представляющие его восточную и западную ветви. Тем более странным представляется то, что при практически полном их согласии относительно способа беспрецедентного и неповторимого соединения в Сыне Божием «совершенного Бога и совершенною человека» (Вл. Соловьев) господствует и углубляется в течение уже тысячи лет столь же решительное расхождение в вопросе о составляющих этого таинственного единства. Относительно Божества, правда, разногласия примечательным образом не касаются проблемы природы, почему и оказывается возможным, скажем, переписывать из западных догматик не только христологию, но и учение о свойствах Божиих.
Соловьев) господствует и углубляется в течение уже тысячи лет столь же решительное расхождение в вопросе о составляющих этого таинственного единства. Относительно Божества, правда, разногласия примечательным образом не касаются проблемы природы, почему и оказывается возможным, скажем, переписывать из западных догматик не только христологию, но и учение о свойствах Божиих.
Различие начинается уже на языковом уровне и даже самого слова «различие». Ведь ни в одном европейском да, наверное, и ни в одном азиатском языке «лицо» не участвует в образовании слова, обозначающего разницу. Продуктивность же слов «лик» и «личный» в русском языке просто поразительна (от «обличения» и «приличия» до пресловутой «налички»). Что же касается богословского языка, то ключевым можно считать момент, когда обнаружилось (Боэций), что латинская калька с греческого слова, обозначающего Лицо (υποστασις), означает Природу (substantia).
Таким образом, проблема единства и разделения западной и восточной частей христианства, особенно обострившаяся в последнее время в связи с активизацией антихристианских сил, представляется в существенной мере антропологической.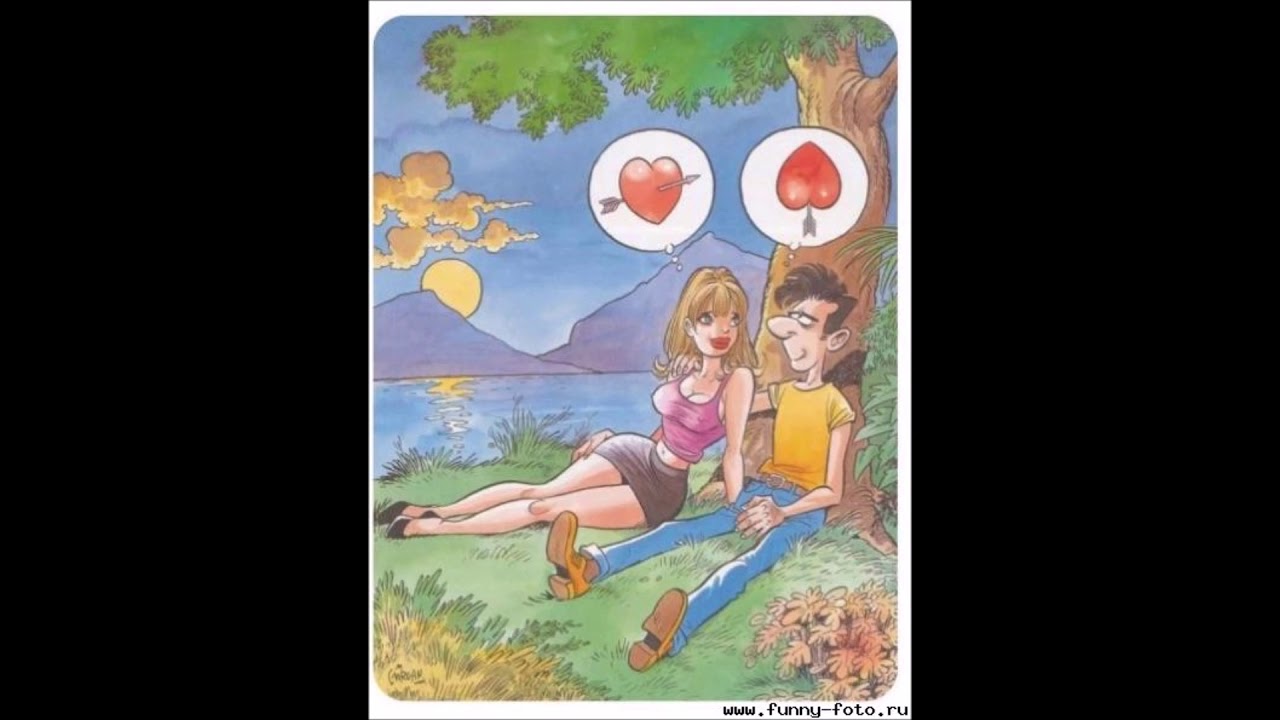 Для всякого непредубежденного исследователя должно быть очевидно, что это проблема не столько отношения конфессий, сколько взаимоотношения христиан — личностных носителей человеческой природы, не сумевших договориться об общем понимании трех последних терминов.
Для всякого непредубежденного исследователя должно быть очевидно, что это проблема не столько отношения конфессий, сколько взаимоотношения христиан — личностных носителей человеческой природы, не сумевших договориться об общем понимании трех последних терминов.
В этой связи представляется совершенно правильной постановка на двух близких по времени конференциях богословов Русской Православной Церкви двух самых принципиальных для взаимопонимания западно-христианского и православного мира вопросов — тринитарного и антропологического.1
Глубокая взаимосвязь этих важнейших богословских тем всегда осознавалась православными мыслителями от патриарха Фотия до протоиерея Иоанна Мейендорфа, но отчетливая ее Формулировка дана была почти одновременно и независимо только в начале 20-х годов прошедшего столетия Л. П. Карсавиным («Восток, Запад и русская идея»), А. Ф. Лосевым («Очерки античного символизма и мифологии»), а также в яркой, хотя и спорной работе А. К. Горского и Н. И. Сетницкого «Смертобожничество». Дело в том, что видимость тринитарного и антропологического согласия христианских Востока и Запада существовала до тех пор, пока наличествовало общее понимание раннехристианской мифологемы спасения как искупления и оправдания, которая присутствует — несколько варьируя — и в синоптической, и в Иоанновой традиции, и у Апостола Павла. Метафорические смыслы участвовали в мировоззренческом и религиозном целом и далее не концептуализировались. Реликты такого прекрасного благочестия существуют и доныне, но являются скорее исключением и к тому же претерпели рационализацию и тяготеют, поэтому, к натурализму.
Горского и Н. И. Сетницкого «Смертобожничество». Дело в том, что видимость тринитарного и антропологического согласия христианских Востока и Запада существовала до тех пор, пока наличествовало общее понимание раннехристианской мифологемы спасения как искупления и оправдания, которая присутствует — несколько варьируя — и в синоптической, и в Иоанновой традиции, и у Апостола Павла. Метафорические смыслы участвовали в мировоззренческом и религиозном целом и далее не концептуализировались. Реликты такого прекрасного благочестия существуют и доныне, но являются скорее исключением и к тому же претерпели рационализацию и тяготеют, поэтому, к натурализму.
Антропоморфность тринитарных символов и, обратно, тринитарность самопонимания человека вышли на первый план, хотя и не всегда в явном виде, сразу после того, как центр богословского внимания переместился от христологии к экклезиологии, понимаемой в самом широком смысле, то есть учения о том, как человечеству жить с истиной о Богочеловеке, — где этот центр, собственно, и продолжает находиться. Но православная антропология, в отличие от католической и протестантской, не получила эксплицитного, систематического изложения. В русской православной литературе не существует ни монографий, ни учебников по этому важному предмету, если не считать очень полезных, но не более чем подготовительных работ протоиерея Василия Зеньковского и архимандрита Киприана (Керна). Единственное, хотя и грандиозное исключение, подтверждающее общее правило (почему, станет ясно из последующего), — «Наука о человеке» В. Несмелова. И это странное обстоятельство также требует объяснения, особенно если учесть правильно отмеченную отцом Василием антропологическую доминанту русской ментальности. Достаточно вспомнить, что первыми выдающимися произведениями зародившегося (или по другим — возродившегося) в конце XVII — начале XVIII века русского богословия были «Беседы о двойственном человеке» святителя Митрофана и глубоко антропологический «Наркисс» Григория Сковороды.
Но православная антропология, в отличие от католической и протестантской, не получила эксплицитного, систематического изложения. В русской православной литературе не существует ни монографий, ни учебников по этому важному предмету, если не считать очень полезных, но не более чем подготовительных работ протоиерея Василия Зеньковского и архимандрита Киприана (Керна). Единственное, хотя и грандиозное исключение, подтверждающее общее правило (почему, станет ясно из последующего), — «Наука о человеке» В. Несмелова. И это странное обстоятельство также требует объяснения, особенно если учесть правильно отмеченную отцом Василием антропологическую доминанту русской ментальности. Достаточно вспомнить, что первыми выдающимися произведениями зародившегося (или по другим — возродившегося) в конце XVII — начале XVIII века русского богословия были «Беседы о двойственном человеке» святителя Митрофана и глубоко антропологический «Наркисс» Григория Сковороды.
Вообще, деятельность в области чистого богословия (в отличие, скажем, от литургики или церковного права) как-то заказана для русского богослова.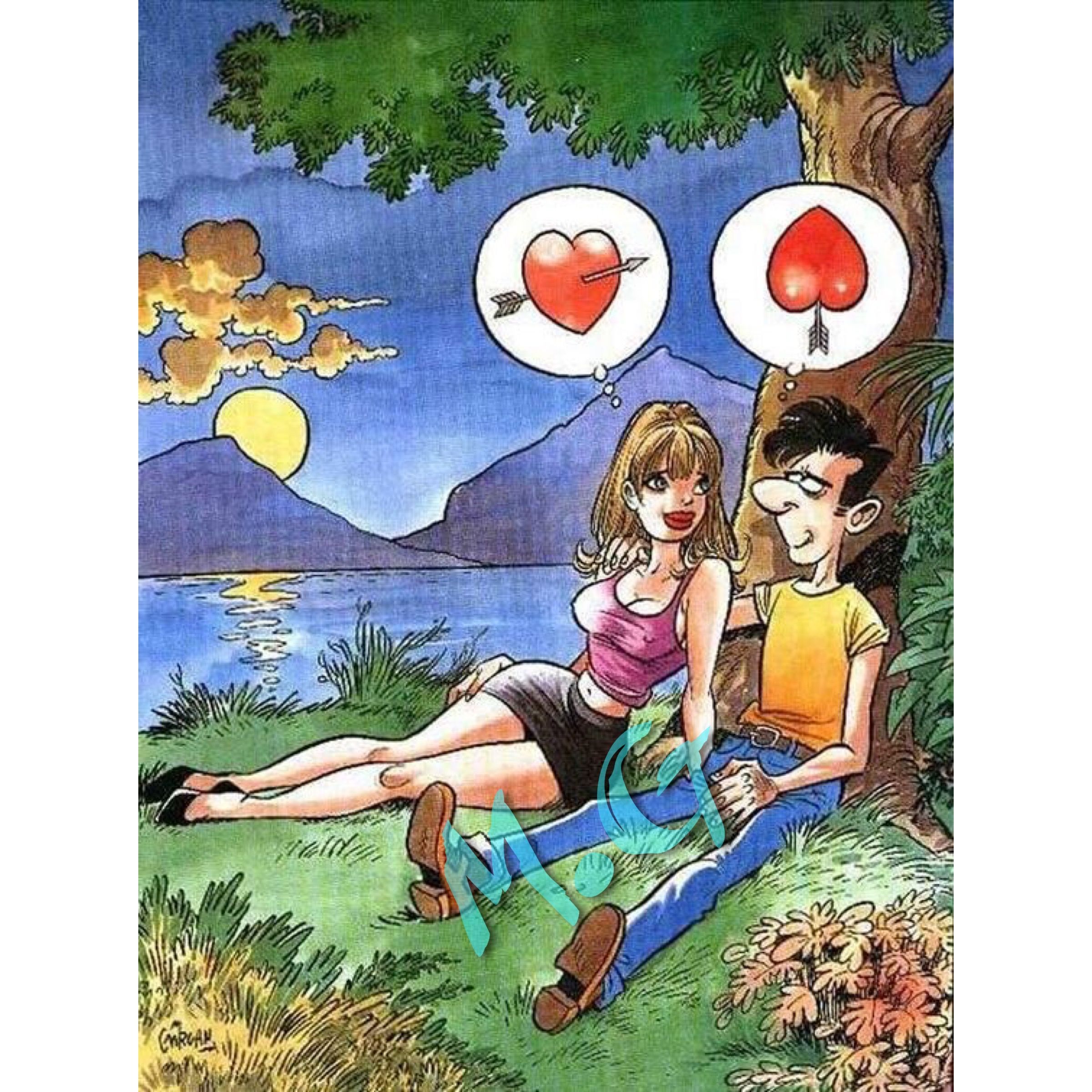 В своем замечательном обзоре отечественного богословия на юбилейной конференции 1988 года митрополит Кирилл смог назвать всего одну книгу в этом щепетильном разряде — и это была, конечно, только что упомянутая «Наука о человеке». Можно предложить, конечно, и объяснение, в одном слове, указанных загадочных свойств и «путей русского богословия»: таким словом будет онтологизм русской православной мысли, замеченный и проанализированный, прежде всего, Н. Бердяевым и В. Эрном. Русский человек, по словам С. Франка, осознает себя сушим не столько в мире, сколько в бытии. Нормативным же истинным бытием, «бытием-как-таковым» (esse ipsum) является, собственно, Бог. А трудность состоит в том, что, как выразился Фома Аквинский, первое по бытию оказывается обычно последним в мышлении. Иначе говоря, «ум способен отвратиться от того, что ближе всего к основанию его собственной структуры» (П. Тиллих).
В своем замечательном обзоре отечественного богословия на юбилейной конференции 1988 года митрополит Кирилл смог назвать всего одну книгу в этом щепетильном разряде — и это была, конечно, только что упомянутая «Наука о человеке». Можно предложить, конечно, и объяснение, в одном слове, указанных загадочных свойств и «путей русского богословия»: таким словом будет онтологизм русской православной мысли, замеченный и проанализированный, прежде всего, Н. Бердяевым и В. Эрном. Русский человек, по словам С. Франка, осознает себя сушим не столько в мире, сколько в бытии. Нормативным же истинным бытием, «бытием-как-таковым» (esse ipsum) является, собственно, Бог. А трудность состоит в том, что, как выразился Фома Аквинский, первое по бытию оказывается обычно последним в мышлении. Иначе говоря, «ум способен отвратиться от того, что ближе всего к основанию его собственной структуры» (П. Тиллих).
Самопознание оказывается при этом одновременно столь же простым, как богопознание, и столь же трудным, и Б. П. Вышеславцев совершенно справедливо замечает, что имеет смысл говорить о «скрытом человеке» (homo absconditus) в таком же смысле, как о Deus absconditus. Именно этот «сердца человек» (1 Пет 3:4) — такой понятный, что и исследовать особенно нечего, и такой «сокровенный», что и сказать ничего с точностью нельзя, — является и объектом, и субъектом православной антропологии, приобретающей от этого своеобразный имплицитный, подразумеваемый характер. Немаловажно и то, что важнейшим измерением отмеченного участия в бытии, «неразведенности с бытием», по выражению С. Франка, является молчание (исихия).
П. Вышеславцев совершенно справедливо замечает, что имеет смысл говорить о «скрытом человеке» (homo absconditus) в таком же смысле, как о Deus absconditus. Именно этот «сердца человек» (1 Пет 3:4) — такой понятный, что и исследовать особенно нечего, и такой «сокровенный», что и сказать ничего с точностью нельзя, — является и объектом, и субъектом православной антропологии, приобретающей от этого своеобразный имплицитный, подразумеваемый характер. Немаловажно и то, что важнейшим измерением отмеченного участия в бытии, «неразведенности с бытием», по выражению С. Франка, является молчание (исихия).
С этой позиции православные вынуждены весьма критически оценивать обильные результаты интенсивного развития западной философской и религиозной антропологии в XX столетии — веке неслыханного унижения личности. Ведь если неточно указывается в ней само «die Stellung des Menschen im Kosmos» (положение человека в космосе — М. Шелер), то ошибка обязательно удваивается именно оттого, что строит учение о человеке сам человек, изначально находящийся в пределах того мировоззренческого типа, адекватность которого универсальной человеческой природе проблематична. Многое выглядит вообще как напрасная трата сил. Фундаментальная онтология (фактически, антропология) М. Хайдеггера, например, в которой человек (Da-sein) рассматривается как бытие-в-мире (in-der-Welt-sein), а само бытие оценивается как горизонт существования, хотя и вызывает в России напряженный интерес, но не получает у нас творческого продолжения: горизонт ведь уже тут (da), религиозный и философский Абсолюты никуда не расходились, как у Аристотеля или Фомы. Поэтому и высокая объяснительная способность многочисленных европейских антропологических концепций — от Фрейда до Левинаса — вызывает скорее сострадание, чем восхищение.
Многое выглядит вообще как напрасная трата сил. Фундаментальная онтология (фактически, антропология) М. Хайдеггера, например, в которой человек (Da-sein) рассматривается как бытие-в-мире (in-der-Welt-sein), а само бытие оценивается как горизонт существования, хотя и вызывает в России напряженный интерес, но не получает у нас творческого продолжения: горизонт ведь уже тут (da), религиозный и философский Абсолюты никуда не расходились, как у Аристотеля или Фомы. Поэтому и высокая объяснительная способность многочисленных европейских антропологических концепций — от Фрейда до Левинаса — вызывает скорее сострадание, чем восхищение.
Первые попытки уяснения онтологической специфики Православия, и именно в антропологическом аспекте, были предприняты, как известно, А. Хомяковым и И. Киреевским. Их выдающиеся работы, при всей неотразимости высказанной в них правды, имеют, однако, в основном обличительно-изоляционистский характер и не могут быть положены в основу богословской концепции. Хомяков, например, справедливо акцентирует нравственную составляющую им же прекрасно описываемой «соборности», но не видит, что моральная база слишком узка и избежать примеси трансцендентализма, а стало быть, отчасти и протестантизма, находясь на ней, трудно. Искажения тринитарного учения Церкви в католицизме, например, объяснены им исключительно своеволием западного человека и его непослушанием древнецерковному преданию. Это правильно, но недостаточно — ведь возникает вопрос, насколько отмеченные свойства в свою очередь могут быть обусловлены более глубоким фактором, а именно, объясняемой с их помощью ограниченностью тринитарного сознания, мышления и чувства.
Искажения тринитарного учения Церкви в католицизме, например, объяснены им исключительно своеволием западного человека и его непослушанием древнецерковному преданию. Это правильно, но недостаточно — ведь возникает вопрос, насколько отмеченные свойства в свою очередь могут быть обусловлены более глубоким фактором, а именно, объясняемой с их помощью ограниченностью тринитарного сознания, мышления и чувства.
Работа основателей русского светского богословия была продолжена Владимиром Соловьевым — ключевой и самой трагической фигурой в истории русской мысли именно в силу того, что этот глубоко православный гений попытался не только разобраться в корневых причинах «великого спора», но и наметить пути взаимной рецепции разделившимися исповеданиями их самых, по его убеждениям, выдающихся и привлекательных свойств. Его инициатива оказалась неудачной, но богословский ее анализ, кажется, до сих пор не осуществлен и скорее всего именно из-за отмеченного уже нежелания (или неумения) эксплицировать тринитарно-антропологические вопросы.
Внешним поводом для построения типологической схемы Соловьева, изложенной в одной из его лучших по отчетливости и выразительности работ «Великий спор и христианская политика», послужило, надо думать, само количество образовавшихся подразделений христианства: три. Мыслитель проявляет осторожность — он не привязывает напрямую деноминаций к ипостасям, но те символы и аллегории, которые он использует для классификации, так или иначе на Лица указывают.
Соловьев использует целый набор пространственно-временных и собственно библейских категорий и символов, из которых мы приведем только три. Первое по значимости место Православия характеризуется и символами «начало», «основание», «первосвященническое служение Христа». Ясно, что они очевидным образом ассоциируются с ипостасью Отца. Для характеристики католицизма используются символы «середина», «стены (здания)», «царское служение Христа». Посредническая, домостроительная и собственно «господская» функции ипостаси Сына также достаточно в этих категориях просматриваются. Правомерность сближения протестантизма с символами «конца», «крыши (дома)» и «пророческого служения Христа» менее очевидна, но связь с ипостасью Духа видна и здесь. Соловьев сожалеет об утрате лютеранством интуиции основания и связанном с ней отсутствии верности фундирующей истине церковного Предания и скептически относится к претензии протестантизма на оживление в его рамках пророческого Духа. Католицизм же и Православие, по его мнению, должны взаимно восполнить, с одной стороны, недостающую Православию активность, действенность в мире, с другой, мутировавшее в католичестве и неповрежденное в Православии новозаветное и догматическое учение.
Правомерность сближения протестантизма с символами «конца», «крыши (дома)» и «пророческого служения Христа» менее очевидна, но связь с ипостасью Духа видна и здесь. Соловьев сожалеет об утрате лютеранством интуиции основания и связанном с ней отсутствии верности фундирующей истине церковного Предания и скептически относится к претензии протестантизма на оживление в его рамках пророческого Духа. Католицизм же и Православие, по его мнению, должны взаимно восполнить, с одной стороны, недостающую Православию активность, действенность в мире, с другой, мутировавшее в католичестве и неповрежденное в Православии новозаветное и догматическое учение.
Несостоятельность такого проекта выявляется уже при рассмотрении его теоретических основ. Схема Соловьева разворачивает его более глубинную интуицию о том, что соблазном и тупиком для восточной религиозности является «бесчеловечный Бог», а для западной — «безбожный человек», и в этом он прав. Прав Соловьев и в том, что выделяет он, действительно, основное, но и потери при этом оказываются слишком велики. Так, у Православия не замечена им духоносность, совершенно очевидная для каждого, кто вникает, например, в феномены старчества, умного делания или русской иконописи. Стойкая христоцентричность протестантизма, лишь ненадолго ослабевшая именно в эпоху Соловьева, также игнорируется. Наконец, незыблемая верность — хотя бы и внешняя — католицизма учению Соборов несомненна, и если канонический обычай возведен здесь в догматическое достоинство, то это вовсе не означает еще разрушения основ.
Так, у Православия не замечена им духоносность, совершенно очевидная для каждого, кто вникает, например, в феномены старчества, умного делания или русской иконописи. Стойкая христоцентричность протестантизма, лишь ненадолго ослабевшая именно в эпоху Соловьева, также игнорируется. Наконец, незыблемая верность — хотя бы и внешняя — католицизма учению Соборов несомненна, и если канонический обычай возведен здесь в догматическое достоинство, то это вовсе не означает еще разрушения основ.
Недостаток времени не позволяет углубиться в исключительно богатое идейное содержание выдающегося произведения нашего великого мыслителя. Для предполагаемой же здесь тринитарно-антропологической типологии существенно то, что она возникла как попытка использовать положительные моменты соловьевской инициативы и проклассифицировать три христианские конфессии, а главное — соответствующие им антропологические типы согласно трем фундаментальным принципам в рамках методики отождествления Абсолютов — религиозного и философского, — столь болезненно-затруднительного для западного мышления и столь органичного для онтологического по свой сути мышления русского православного, кульминировавшего ведь в интуитивистских и диалектических построениях XX столетия.
Здесь опять-таки нет возможности воспроизводить ту оптимальную диалектическую разработку глубочайших интуиций неоплатонизма и их сопряжение с Откровением, которые осуществил А. Ф. Лосев, и я изложу только конечные результаты модификации с их помощью соловьевской типологии. Попросту говоря, мы отказываемся от упрощенного увязывания ипостаси и конфессии и вводим классификацию по недостающему (или, точнее, слабо ощущаемому) в данной конфессии принципу. Идеалом в таком случае представляется некий «генотип» Православия, скорее реконструируемый, нежели реализованный, как абсолютное равновесие Ипостасей, изображенное, например, преподобным Андреем Рублевым. Лицам Святой Троицы ставятся в соответствие, в духе первой тетрактиды Лосева, плотиновская триада, обычно неправильно трактуемая в вульгарно-эманационном смысле, а также Проклов диалектический процесс пребывания (μονη), выхождения вовне (προοδος) и возвращения (επιστροφη), который воспроизводил в своем шедевре, видимо, не вполне это осознавая, Л. Карсавин.
Карсавин.
Тогда «фенотипические», т. е. реально существующие, православие, католицизм и протестантизм расположатся по порядку ослабленного ощущения их носителями соответственно Второй, Третьей и Первой Ипостасей и тех принципов и категорий, которые находятся в соответствующих им горизонтальных строках общеизвестной теперь таблицы из приложений к «Диалектике мифа» Лосева. Для католицизма это сразу дает Filioque, дефицит духовной жизни, чувства прекрасного, благодатной церковности, образующие вместе специфический антропологический тип. Недостаточность протестантизма выявится как размытость оснований, раздробленность в отсутствие интуиции Одного, духовное бессилие, компенсируемое силами бездуховности («от Канта до Круппа»), — тип также вполне определенный. Родному Православию придется признаться, пожалуй, в ослабленной восприимчивости к смыслу со всеми его подразделениями и разветвлениями, как то: к идеям, логосам, формам, разуму, понятиям и т. д. — и в этом, кажется, узнаваем славянский антропологический тип. Тогда, может быть, мы будем вынуждены согласиться с соборянами Лескова в том, что Христос у нас не проповедан, т. е. скорее имплицитен, подразумеваем, нежели разумеваем. Другое дело, что неявное Его присутствие здесь неизбежно, поскольку соответствующие принципы «проходятся» в движении от Первого Начала к Третьему, тогда как в западных исповеданиях выпадение «крайних» Начал ведет к перерождению христианства как тринитарного монотеизма и формированию антропологического типа западного человека.
Тогда, может быть, мы будем вынуждены согласиться с соборянами Лескова в том, что Христос у нас не проповедан, т. е. скорее имплицитен, подразумеваем, нежели разумеваем. Другое дело, что неявное Его присутствие здесь неизбежно, поскольку соответствующие принципы «проходятся» в движении от Первого Начала к Третьему, тогда как в западных исповеданиях выпадение «крайних» Начал ведет к перерождению христианства как тринитарного монотеизма и формированию антропологического типа западного человека.
Последний вывод имеет важнейшие экклезиологические следствия, не позволяющие видеть в предлагаемой модели лишь искусственную схему. В ее рамках удается, например, избежать двух опасных крайностей в межконфессиональной полемике. Неуместными становятся как обличительный пафос ультраконсервативной ортодоксии, так и экуменические иллюзии ее либерального крыла. Ведь если мы имеем дело с принципиально иным (и именно антропологически) типом «Lebensanschaung» (А. Швейцер), который, в свою очередь, обусловлен своеобразной онтологической почвой произрастания, то обе позиции выглядят столь же непродуктивными, как предложение барсу сменить пятна свои (Иер 13:23). Более удачным с этой точки зрения представляется, например, сравнение попыток объединить жесткую иерархию (и, соответственно, духовную безответственность прихожан) Католической Церкви и православную стихию духовной свободы с методикой заливания пожара бензином (Горский — Сетницкий).
Более удачным с этой точки зрения представляется, например, сравнение попыток объединить жесткую иерархию (и, соответственно, духовную безответственность прихожан) Католической Церкви и православную стихию духовной свободы с методикой заливания пожара бензином (Горский — Сетницкий).
Но даже абстрактно-нумерологические соображения (а онтологическая, конституирующая роль числа должна быть признана независимо от всякого оккультизма) направляют мысль к уяснению конфессиональной специфики. Так может быть понята самоуверенность и властная установка католицизма, сознающего себя — хотя бы и интуитивно — носителем «важнейших», то есть первых по номеру, Начал. А поскольку единица и двойка суть начала индивидуализации и мультипликации, а значит, и социальности (И. Смирнов), становится понятнее и суть католической церковности как индивидуалистической социальности. Раздвоение или, шире, дифференциация лежит в основе феноменов рефлексии и сознания вообще (прежде всего как самосознания — Декарт), и западный рационализм помещается здесь как в ядре, ведь для протестантского типа второе Начало вообще доминирует безусловно, раз он воспринял Третье от своего предшественника уже униженным. А тройка здесь перестает быть началом соборности, как в Православии, поскольку слаба Единица, и «двое или трое» могут сколько угодно собираться «во имя Мое»: это собирание — уже не в Едином на потребу (Ενος χρειον — Лк 10:42), а совсем в другой парадигме. Нерациональная, дословная (Ф. Гиренок), «тавтологическая» соборность Православия также проясняется уже на нумерологическом уровне: Единица и Единство (тройка как воспроизведение единицы — древнейшая числовая интуиция) ведь и суть Одно — с постоянной, к сожалению, опасностью бесформенности и безразличия. У русских нет бессознательного, потому что вся Россия — подсознание (Б. Гройс).
А тройка здесь перестает быть началом соборности, как в Православии, поскольку слаба Единица, и «двое или трое» могут сколько угодно собираться «во имя Мое»: это собирание — уже не в Едином на потребу (Ενος χρειον — Лк 10:42), а совсем в другой парадигме. Нерациональная, дословная (Ф. Гиренок), «тавтологическая» соборность Православия также проясняется уже на нумерологическом уровне: Единица и Единство (тройка как воспроизведение единицы — древнейшая числовая интуиция) ведь и суть Одно — с постоянной, к сожалению, опасностью бесформенности и безразличия. У русских нет бессознательного, потому что вся Россия — подсознание (Б. Гройс).
Еще более обогащается онто-эвристический смысл предлагаемой типологии, когда наши возвышенные Числа наполняются диалектико-эйдетическим содержанием, причем обнаруживается исключительно плодотворное тождество содержания и формы. Собственно, и антропологические импликации выявляются на этом уровне. И главным антропологическим следствием предлагаемой систематики будет перенос акцента с идущих от стоицизма трихотомических делений человеческой природы, главным из которых является знаменитое «дух, души и тело», на тринитарное представление о единой человеческой личности в трех измерениях: нравственном, интеллектуальном и эстетическом. Именно им ближайшим, хотя и неоднозначным, образом соответствуют три онтологические Начала «абсолютной диалектики» (А. Лосев) и три Ипостаси «абсолютного Откровения», и эти абсолютности — идентичны.
Именно им ближайшим, хотя и неоднозначным, образом соответствуют три онтологические Начала «абсолютной диалектики» (А. Лосев) и три Ипостаси «абсолютного Откровения», и эти абсолютности — идентичны.
К сожалению, здесь нет времени изложить большое количество нетривиальных результатов, полученных с помощью данной типологической схемы, впервые, кажется, представляющем специфически христианский, то есть тринитарный, базис для объединения многоразличных антропологических концепций, предлагавшихся в течение двухтысячелетней истории Церкви, и соответствующего уяснения самой этой истории. Как примат «проодичности» над «эпистрофичностью» объясняется, например, удивительная влиятельность эволюционной парадигмы в западной цивилизации и особенно в условиях ослабления интуиции «первопребывания»; беспомощность католической критики в ее отношении как незнание «замыкания единства», враждебное отношение к ней сектантских движений, сосредоточенных ведь на специфике Третьей Ипостаси; возникновение именно в России противоположной дивергентной гипотезе Дарвина конвергентной модели академика Л. Берга, к которой Запад, в свою очередь, совершенно невосприимчив. Автоматически укладывается в эту схему засилье трансцендентализма в ареалах протестантского исповедания, при повальном равнодушии к нему мыслителей латинской цивилизации. Односторонность (и связанный с ней террор) рассудочного смысла (2-е Начало и Кант) и эстетического переживания (3-е Начало и Шлейермахер) не преодолеваются защитниками Начала 1-го (Гегель, Шеллинг), поскольку их позиция изначально ослаблена ментальностью переживаемого (3-е) смысла (2-е),2 которая и кульминирует со слегка перемещенными акцентами у Гуссерля. Возможна и очень понятна отсюда разработка типа «осмысленного (2-е) переживания (3-е)» (Зиммель, Дильтей), но и то и другое в отрыве от Источника (1-е) неминуемо оказывается атеистично (верующий феноменолог — почти абсурд).
Берга, к которой Запад, в свою очередь, совершенно невосприимчив. Автоматически укладывается в эту схему засилье трансцендентализма в ареалах протестантского исповедания, при повальном равнодушии к нему мыслителей латинской цивилизации. Односторонность (и связанный с ней террор) рассудочного смысла (2-е Начало и Кант) и эстетического переживания (3-е Начало и Шлейермахер) не преодолеваются защитниками Начала 1-го (Гегель, Шеллинг), поскольку их позиция изначально ослаблена ментальностью переживаемого (3-е) смысла (2-е),2 которая и кульминирует со слегка перемещенными акцентами у Гуссерля. Возможна и очень понятна отсюда разработка типа «осмысленного (2-е) переживания (3-е)» (Зиммель, Дильтей), но и то и другое в отрыве от Источника (1-е) неминуемо оказывается атеистично (верующий феноменолог — почти абсурд).
И, конечно, ничем другим, кроме слабости мультиплицирующего 2-го Начала и неумеряемой им тотальности стихии Единения, объясняются ключевой характер и нормативность для русской философии идей Всеединства, Софии и Богочеловечества. А отсюда еще одно тринитарно-антропологическое подтверждение сделанного выше экклезиологического вывода: православная широта (1 — … — 3) принципиально не может быть присоединена или привита к более узким парадигмам, и единственным способом воссоединения типологически разнородных видов христианской реализации остается нечто вроде инкорпорирования: пустое место между крайними цифрами предельно осторожно заполняется незнакомыми нам западными бинарными оппозициями: субъекта и объекта, добра и зла, консерватизма и либерализма и т. д., — выращенными внутри европейского христианства. Экклезиологическим же идеалом было бы полное вхождение западных исповеданий в православный hiatus с последующим восстановлением исконного равновесия Начал. Выявленная Достоевским «всемирная отзывчивость» русского типа, достаточно высокие образцы которой в религиозной философии дали, например, Соловьев, Бердяев или Лосев, была бы гарантом невредимости западных обычаев.
А отсюда еще одно тринитарно-антропологическое подтверждение сделанного выше экклезиологического вывода: православная широта (1 — … — 3) принципиально не может быть присоединена или привита к более узким парадигмам, и единственным способом воссоединения типологически разнородных видов христианской реализации остается нечто вроде инкорпорирования: пустое место между крайними цифрами предельно осторожно заполняется незнакомыми нам западными бинарными оппозициями: субъекта и объекта, добра и зла, консерватизма и либерализма и т. д., — выращенными внутри европейского христианства. Экклезиологическим же идеалом было бы полное вхождение западных исповеданий в православный hiatus с последующим восстановлением исконного равновесия Начал. Выявленная Достоевским «всемирная отзывчивость» русского типа, достаточно высокие образцы которой в религиозной философии дали, например, Соловьев, Бердяев или Лосев, была бы гарантом невредимости западных обычаев.
И если уж «Наука о человеке» моего великого земляка попала как-то в центр завершаемого сообщения, попробуем заодно объяснить ее так рассердившую отца Георгия Флоровского концептуальную незаконченность: Виктор Иванович Несмелов столь же неоправданно срывается во втором томе с непривычного ему платонизма в достаточно стандартную, хотя и усовершенствованную с помощью разработанных интуиции западную догматику, как в середине первого тома покинул неродную православному уму феноменологию ради вожделенного тождества: все та же вечная русская страсть к восполнению единства, все та же — сверхчеловеческая и антропологическая — игра трех Принципов.